Я, скажешь, уеду в другую страну, я к другим берегам поеду
поискать себе город получше, чем здесь
всё впустую оглядывать с прожитым сердцем.
Сколько ему тут ещё стыть? Ведь куда ни пойди,
всюду встретишь пережитые развалины
стольких лет, которые тут размотал и прожёг. —
До другой страны ты не доедешь, до других берегов не добраться.
Город потянется за тобой. В тех же улицах ты будешь путаться
по таким же кварталам, ты станешь седым в тех же стенах.
Куда бы ты ни отправился, ты сойдёшь в том же городе.
Нет ни корабля, ни дороги, чтобы тебя вывезти. Ничего не жди.
Ты пустил свою жизнь на весь свет, размотав её в этом его закоулке.
Поэт

Black Russian

В лесу, то есть в лесопарке, в котором тонуло, спускаясь по склону к берегу залива, наше родное местечко К***, – за большими воротами показывался домик, вызывавший у моего приятеля Жоржа поэтическое уподобление с японкой в пледе – строение с причудливой крышей во мху, с просторной верандой и округлым, как лотос, проёмом балкона во втором этаже. По всей видимости, он имел в виду японскую проститутку из каталога с иллюстрациями Утамаро; девушки, изображённые в этом знаменитом старинном альбоме, действительно одеты в халаты из тканей, очень напоминающих шотландку – материю, которая всегда приводила нервное состояние Жоржа в приятное равновесие. С другой стороны, моё собственное романтическое впечатление по поводу этого памятника эпохи северного возрождения связано с одной женщиной с раскосыми прозрачными глазами на узком и слегка испитом лице. У неё на лбу был шрам. Про таких женщин иногда говорят, что они, как птица, хотя, на мой взгляд, между птицей и женщиной не может быть ничего общего. Всех этих сравнений и воспоминаний слишком много для маленького помещения бывшего детского сада, который мы однажды застали разрушенным и производящим тот аромат специфического эротизма, который имеет сгнившая от морского воздуха дача с приятной архитектурой времён прекрасной эпохи. Но этот душок нашего северного залива и наши разговоры о прекрасной Лапландии, на вершинах которой (меня не интересует, существуют ли там вершины) должны стоять строгие белые здания, сверкающие стеклами – они создавали передо мной картину такой, может быть, несколько замогильной утопии, которая представляет собой что-то вроде пансионата для выздоравливающих детей, и они каждое утро спускаются с этих вершин бродить и резвиться на поле между карликовыми берёзками, елями и другими цветами.
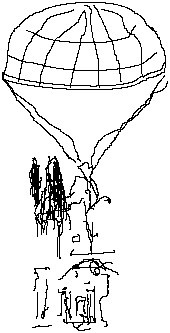
Место
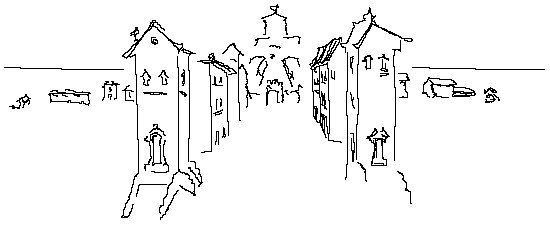
Башня
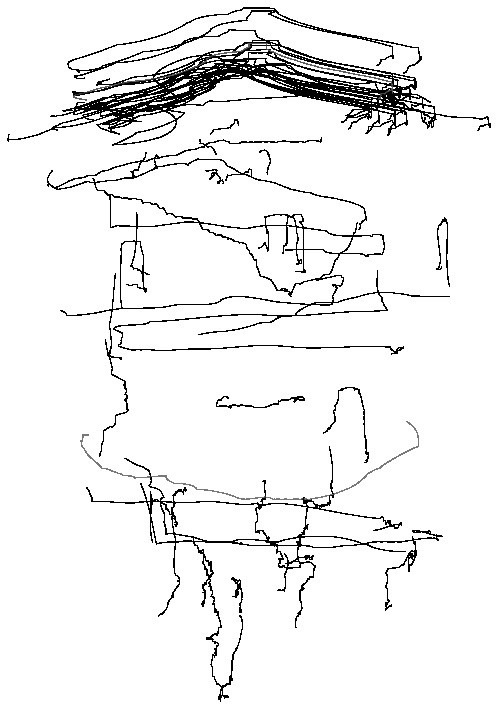
Легенда о Великих прозрачных
Я никогда не забуду прилив восторга и гордости, который, в одно из самых первых посещений мной в детстве кладбища, вызвала у меня встреченная – среди стольких гнетущих или смехотворных надгробий – простая гранитная плита, на которой большими алыми буквами выбили прекрасный девиз: НИ ГОСПОДА, НИ ГОСПОДИНА.
Андре Бретон. «Аркан 17»
<1>
В 1942 году в Нью-Йорке, куда ему удалось выехать из оккупированной Франции, Андре Бретон опубликовал декларацию, которую назвал «Пролегомены к третьему манифесту сюрреализма, или Нет». Те, кто плохо представляют себе, что значит сюрреализм, могут увидеть в «Пролегоменах» лирический трактат, действующими лицами которого (хотя и не принято строить философские обобщения на примере людей этого рода занятий) являются разбросанные мировой войной писатели и художники из кружка Бретона. Однако задача, объединяющая здесь участников группы, не имеет ничего общего с художественным отображением действительности или её проектов: напротив, движение сюрреалистов рассматривается в качестве способа выработать такую совместную мифологию, на которую сможет опереться свобода индивидуальностей. По мысли Бретона, такого рода мифология, поддерживающая личный выбор свободы, может и должна противостоять любой коллективной системе взглядов; в отличие от его предшествовавших программ, «Пролегомены» (как и другие поздние сочинения Бретона: «Ода Шарлю Фурье», «Аркан 17» и «Лампа в часах») обосновывают, что политическая история XX века и противостояние в мировой войне показали, насколько любые традиционные и революционные доктрины одинаково несовместимы с идеей свободы, которую они подменили претензией на осуществление всеобщего блага.
Взгляды Бретона определялись, конечно же, в полемике с наиболее родственной его устремлениям коммунистической идеологией. Ко времени создания «Пролегоменов» его критика коммунизма стала уже безусловной. Бретон всегда был активным противником партийных установок сталинистов и критиком эволюции в СССР. Для него сталинизм представлял собой разновидность консервативной ортодоксии, и, хотя Бретон никогда не сопоставлял прямо коммунизм и религию, ему нравилось сравнение партийных функционеров с отцами-иезуитами, а Сталин, по его убеждению, вошёл в историю как живое воплощение Великого Инквизитора из романа Достоевского. С другой стороны, поскольку именно Коминтерн выступил в своё время как единственная организованная сила, взявшаяся за осуществление тех принципов свободомыслия XIX века, которые лежали в основе социальных воззрений сюрреалистов, Бретон долгое время пытался найти политическую аналогию своих взглядов в доктрине Троцкого, в лице которого он, более того, видел авторитет такого же революционного героя, Великого отщепенца, как вожди Конвента, создатели социалистических утопий или прóклятые поэты, Сад и Лотреамон. Между Бретоном и Троцким возникла болезненная и тем более скрытая полемика (выразившаяся в их совместном манифесте «За независимое революционное искусство» и ещё более затушёванная Бретоном из‐за произошедшего вскоре убийства Троцкого), которая и сегодня представляет живой интерес, потому что показывает, какими несовместимыми стали в XX столетии когда-то ещё совпадавшие позиции политика и диссидента. Считая, что ужасы тоталитаризма и мировой войны сделали очевидной не только моральную, но и жизненную правоту диссидента, Бретон, в частности, на страницах «Пролегоменов», заявил, что «в 1942 году как никогда следует усилить противостояние по самой сути вещей. Всякая идея, достигшая торжества, утрачивается… и личное сопротивление представляет собой единственный ключ от тюрьмы. Но это должно быть осведомлённое и искусное сопротивление».

