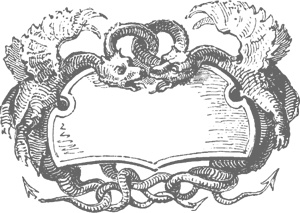Есть и другой, куда более современный пример театральной постановки с тем же результатом. Это «Разбойники» Шиллера – замечательная пьеса, написанная тогда еще зеленым юнцом и при всех своих достоинствах извратившая вкус и воображение всех молодых людей Германии. Один маститый критик, наш соотечественник (Хэзлитт), пишет, что это была первая пьеса, которую он прочел в своей жизни и которая оказала на него такое воздействие, что «поразила [его], как удар». Он не забыл ее и по прошествии двадцати пяти лет; она, как и прежде, была, по его словам, «давним обитателем покоев [его] разума» и даже в ту пору имела на него поистине магическое влияние, причин которого он не мог толком объяснить. Ее главный герой – великодушный разбойник с возвышенными помыслами – вызывал у публики такое восхищение, что несколько неопытных студентов, страстно желая пойти по пути персонажа, в котором они видели воплощение благородства, покинули свои дома и учебные заведения и подались в густые леса, дабы облагать данью путников. Они думали, что будут, как Мавр, грабить богачей, обращаться с красноречивыми монологами к заходящему солнцу или восходящей луне, облегчать участь встреченных ими бедняков и распивать с товарищами фляги рейнвейна на труднопроходимых горных перевалах или в палатках в лесной чаще. Однако небольшой, но полезный опыт чудесным образом охладил их пыл; они обнаружили, что настоящие, обычные разбойники имеют мало общего с традиционными сценическими бандитами и что гораздо лучше читать дома у камина о тюрьме, где они провели три месяца, питаясь хлебом и водой и спя на сырой соломе, чем в нее попадать.
Лорд Байрон с его возвышенными, произносящими монологи разбойниками в какой-то степени извратил вкус юных рифмоплетов своей страны. До сих пор, однако, последние демонстрировали больше здравого смысла, нежели их немецкие собратья, и не уходили в лес для вылазок на большую дорогу. Сколько бы они ни восторгались Конрадом-корсаром, они не выйдут, следуя его примеру, в море и не поднимут черный флаг. Свое восхищение они выражают только на словах, наводняя периодические издания и музыкальные магазины страны виршами, повествующими о похождениях всевозможных пиратов и бандитов и их возлюбленных.
Но больше всего вреда от драматургов, и Байрон в этом отношении менее грешен, нежели Гей или Шиллер. С помощью декораций, изысканных одежд, музыки и донельзя неправдоподобных воззрений своих персонажей они портят массовый вкус и не ведают,
Vulgaires rimeurs!
Quelle force ont les arts pour d2molir les moeurs
[636].
В низкопробных театрах, во множестве расплодившихся в бедных густонаселенных районах Лондона и посещаемых главным образом праздными и беспутными юнцами, спектакли о разбойниках и убийцах привлекают больше публики и вызывают у нее больший восторг, чем любые другие представления. Там воры и грабители изображаются в их истинном свете, и довольные зрители благополучно усваивают уроки совершения преступлений. Там играются глубочайшие трагедии и грубейшие фарсы из жизни убийц и разбойников, и чем они глубже и грубее, тем бóльшие аплодисменты они срывают. Там пьесы, сколь бы зверские злодеяния в них ни творились, ставятся с их отвратительными эпизодами, заимствованными из реальности, вновь и вновь – на потеху тем, кто однажды применит усвоенные знания криминального свойства на практике.
С читателями же ситуация совершенно иная. Люди в большинстве своем любят узнавать из книг о похождениях известных жуликов и разбойников. При этом последние вызывают у них восхищение, будучи даже вымышленными персонажами художественных произведений, – взять хотя бы богатую событиями историю о Жиле Бласе де Сантильяне и великом мошеннике доне Гусмане д’Альфараче. Здесь опасаться подражания не приходится. Поэты тоже вправе воспевать, не причиняя вреда, подобных героев, когда им этого хочется, пробуждая в нас сочувствие к печальной участи Джемми Доусона, Гилдроя и Макферсона Неустрашимого, либо прославляя в бессмертных стихах неблаговидные деяния и мщение великого шотландского разбойника Роба Роя. Если уж с помощью музыки благозвучных рифм они могут убедить мир в том, что такого рода персонажи – не более чем заблуждающиеся философы, родившиеся с опозданием в несколько поколений и любящие в теории и на практике
The good old rule, the simple plan,
That they should take who have the power,
That they should keep who can
[637],
то мир, быть может, станет мудрее и согласится на несколько более справедливое распределение благ, вследствие чего разбойники примирятся с обществом, а общество – с разбойниками. Более вероятным, однако, представляется то, что указанный результат, сколь бы пленительны ни были оды разбойникам, недостижим.

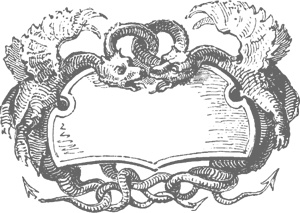
Дуэли и ордалии
There was an ancient sage philosopher,
Who swore the world, as he could prove,
Was mad of fighting.
Большинство писателей, затрагивая в своих произведениях тему дуэлей, объясняют их происхождение воинственными обычаями тех варварских народов, что наводняли Европу в первые столетия христианской эры и предпочитали разрешать взаимные разногласия силой оружия. Действительно, дуэли в их примитивном и наиболее широком толковании суть не что иное, как поединок – универсальное средство, к которому прибегают все дикие животные, включая человека, дабы чем-то завладеть или что-то отстоять либо отомстить за нанесенное оскорбление. Две собаки, рвущие друг дружку за обладание костью, два петуха, дерущиеся на навозной куче ради любви приглянувшейся им курочки, два дурака на уимблдонском общинном выгоне, стреляющие друг в друга для удовлетворения оскорбленного достоинства, – все они в этом отношении одинаковы, являясь дуэлянтами. По мере развития цивилизации наиболее образованные люди естественным образом все более стыдились подобного способа урегулирования споров, и в результате были обнародованы первые законы о возмещении ущерба. Тем не менее зачастую обвиняемый не имел прямых доказательств для опровержения утверждений обвинителя; и во всех случаях такого рода, которых на этапе становления европейской цивилизации было, надо полагать, превеликое множество, стороны прибегали к единоборству. Считалось, что Всевышний придает силу, мужество и решимость тому из комбатантов (сражающихся), на чьей стороне правда, и дарует ему победу над противником. Как удачно заметил Монтескьё
[639], вера в это была вполне естественной для людей лишь недавно вышедших из варварства. Очевидным следствием их воинственности было то, что человек, лишенный мужества – главной добродетели своих соплеменников, подозревался и в других пороках, кроме трусости, которая обычно считалась спутницей предательства. Тот же, кто проявлял в схватке наивысшую доблесть, считался невиновным, какое бы преступление ему ни инкриминировалось. Разумеется, если бы люди мысли, во многих ситуациях выгодно отличающиеся от людей действия, не думали над тем, как обуздать буйные нравы соотечественников, общество рано или поздно вернулось бы к первобытному состоянию. Понимая это, власть имущие начали ограничивать ситуации, в которых закон разрешал подтверждение или опровержение обвинения путем единоборства, как можно более узкими рамками. Законом короля бургундов Гондебальда, принятым в 501 году, доказывание посредством поединка дозволялось во всех судебных разбирательствах взамен присяги. При Карле Великом бургундская практика распространилась на всю Франкскую империю, и не только тяжущиеся стороны, но и свидетели и даже судьи были обязаны отстаивать свою правоту, свои показания и решения с оружием в руках. Его преемник Людовик Благочестивый попытался исправить это все более массовое зло, разрешив дуэли только в апелляционных делах о тяжких преступлениях, в гражданских делах при рассмотрении согласованных сторонами вопросов о вынесении «приказа о праве»
[640] и в делах рыцарского суда на предмет оспаривания рыцарского звания. От этих испытаний освобождались только женщины, больные и увечные, а также мужчины младше пятнадцати и старше шестидесяти лет. Священнослужителям можно было выставлять сражающихся вместо себя. Эта практика с течением времени распространилась на все процессы по гражданским и уголовным делам, которые отныне должны были решаться путем поединка.