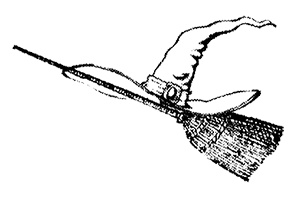— Не прятала я твою книгу, — сказала Пачкуля.
В самом деле. Не прятала. Она ее выбросила. Зашвырнула подальше в кучу мусора, когда Хьюго не видел.
— И вообще, — продолжала она, — я больше не тренькаю! Я уже неделю как не тренькаю! А ты даже не заметил. Я поработала над своей техникой — теперь я как бы ударяю по струнам. Я бы назвала это бренчанием. Вот послушай.
Она схватила гитару и продемонстрировала.
Бреннннньк!
— Треньк, бреньк — какая расница. Это ушас, — сказал Хьюго. — С тобой польше не повеселишься. Раньше у нас было мноко хорошей магии. А теперь — только плохая мусыка. Мне натоело, я иду гулять.
— Не смей! — набросилась на него Пачкуля. — Ты мой помощник. Тебе полагается помогать мне во всех делах. Во всех. В том числе слушать, как я учусь играть. Хвалить меня. Поддерживать меня на новом поприще. Эй ты! — Она повернулась к метле, которая нерешительно мялась в стороне. — Живо в чулан. Ты наказана.
— Фто за нофое поприще? — спросил Хьюго. Его пушистое чело прорезала морщинка.
— Я хочу стать бардом. Давно надо было решиться. Мамуля всегда говорила, что я пою, как соловей. Или как сельдерей? Сельдерей вообще поет? В твоем «Сборнике острот» об этом ничего не пишут, а?
— Откуда мне снать? Ты ефо спрятать.
— Да не прятала я его. А если б и спрятала — кто бы стал меня винить? Давай начистоту: ты уже давно пренебрегаешь своими обязанностями. Конечно… — она призадумалась, — конечно, если я уйду из магии в музыку, мне больше не понадобится помощник. — Она долго смотрела на Хьюго в упор, а потом фыркнула от смеха. — Да сотри ты эту глупую мину со своей морды, я шучу. Знаешь, я соскучилась по тебе. Поставь-ка чайник и налей нам по чашечке болотной водицы. Я спою тебе свою новую песню. Она о тебе — слушай.
Хомяк мой за морем далеко,
Сел в лодку — и был он таков.
Не взял он ни карты, ни весел,
Как жить хомяку без моз…?
— Я бы попросил, — чопорно сказал Хьюго. Но не сумел сдержать улыбки. Он запрыгнул на сушилку для посуды и занялся чайником и чашками.
— Так что? Как там в лесу-то было? — спросила Пачкуля.
— Тихо. Фее мероприятия отменены — никто не приходить.
— Дела все хуже и хуже, — мрачно заметила Пачкуля. — Все помешались на колдовидении. Прям как одержимые стали. Ты знаешь, что такое одержимость, Хьюго? Это когда люди все время говорят об одном и том же и в итоге становятся жуткими занудами. А теперь заткнись и слушай. Это песенка о моем котле.
Мой котелочек, ты мой дружочек,
Ты кашу варишь не хуже прочих.
И хоть ты ржавый, и хоть ты с дыркой,
Будь же всегда со мно-о-ой…
Шельма шла мимо; она торопилась домой, чтобы припасть к экрану колдовизора. Если Пачкуля была одержима гитарой, то Шельма страшно пристрастилась к колдовизору. Она буквально не могла себя от него оттащить. Из дома она вышла только потому, что в кухонных шкафах было шаром покати. У нее наконец закончилось вообще все, и впервые за очень долгое время ей пришлось-таки пойти в магазин. Притом одной. Дадли разбил радикулит, а метла заявила, что у нее сыпь на прутьях, хотя на самом деле оба были в полном здравии и просто хотели остаться дома, чтобы посмотреть «Болото чудес».
Ну так вот. Бедная Шельма кое-как волокла четыре тяжеленных пакета с продуктами, три из которых были набиты кошачьими консервами. Ручки врезались в пальцы. Кроме того, она нацепила новые остроносые сапоги на шпильке, и ноги у нее болели не передать как. Через каждые несколько шагов она останавливалась и ставила пакеты на землю. Но что самое ужасное, в каждом жилище, мимо которого она проходила, работал колдовизор.
Пару раз она была готова постучать в дверь и попросить, чтобы ее пустили посмотреть колдик, но как бы отчаянно Шельмина душа ни просила колдовидения, горячей болотной водицы ей хотелось еще больше. Однако она знала, что, проси не проси, никто не побежит ставить чайник. С приходом колдовидения градус гостеприимства упал ниже некуда. Народ был не готов встать ради гостя с дивана.
Во время очередной передышки она услышала доносившиеся из-за деревьев гнусавые вопли:
У ведьмы скаредной из Гулля
Лягушек целый был мильон.
Я ей сказала: «Дай немножко?»
Но мне ответила бабуля:
«Лягушек клянчить не годится.
Изволь сначала потрудиться,
Ленивая ты старая карга!»
Фа-ла-ла тра-та-та… Эй, вы двое, подпевайте!
О, фа-ла-ла ла-ла тра-та-та…
Пение было поистине чудовищное — но для Шельминых ушей оно звучало райской музыкой.
— О да, — сказала Шельма. — Ну конечно! Пачкуля будет рада меня видеть.
И она похромала к хибаре номер 1 в районе Мусорной свалки.
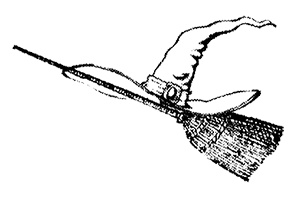
Дверь открыл Хьюго.
— Фа ла-ла тра-та-та, — бодро выводила Пачкуля на заднем плане.
— А, — сказал Хьюго. — Это ты. Паршифый старый котяра с тобой?
— Нет, — кротко сказала Шельма. — Дадли дома, смотрит колдовизор. Я проходила мимо и… скажи, Пачкуля занята?
— Йа. Она петь.
Вопли в глубине хибары прекратились.
— Кто там, Хьюго? — крикнула Пачкуля.
— Федьма Шельма. С кучей покупок.
— Правда? Шельма? Отлично!
Пачкуля появилась в дверях с гитарой и наигостеприимнейшей улыбкой.
— Привет, Пачкуля, — сказала Шельма чуть виновато. Они не виделись с той самой ссоры из-за колдовидения. — Можно мне на минутку войти, чтобы дать отдых ногам? Надела вот новые сапоги. Пальцы как будто ножиком заточили…
— Войти? — радостно воскликнула Пачкуля. — Ну разумеется, ты можешь войти. Дорогая подруга, товарка и наперсница.
— Правда? Я думала, ты со мной не разговариваешь — после нашей беседы о самазнаешьчем.
— Ой, ну что ты! Все давно забыто. Хьюго, поставь на стол еще одну чашку — у нас гости. — Пачкуля с надеждой посмотрела на Шельмины пакеты. — У тебя там случайно нет кекса?
— Есть. Шоколадный, я его купила для…
— Отлично, — одобрительно перебила ее Пачкуля. — Хьюго, тарелки! А печенье есть?
— Вообще-то есть, с джемом, я завтра собиралась…
— Сгодится. Хьюго накроет на стол. А я пока сыграю тебе на гитаре. — И она жестом пригласила Шельму в свою грязную хибару.
— У тебя гитара, — заметила Шельма, плетясь за Пачкулей с пакетами. — Новая? Ты не говорила, что умеешь играть.
— Неужели? Умею, да, — небрежно сказала Пачкуля. — Притом весьма неплохо. Конечно, до уровня Дикого Скрыжовника мне еще далеко, но, с другой стороны, мы с ним играем в разных стилях.