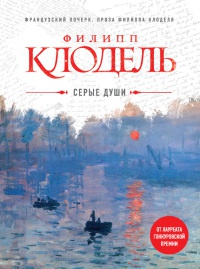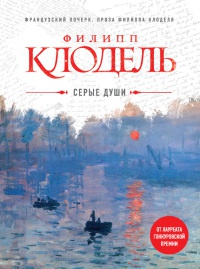
Я здесь. Быть здесь – моя судьба.
Жан-Клод Пирот. «Путешествие в осень»
Быть секретарем суда времени,
Каким-нибудь заседателем, что бродит вокруг,
Когда не поймешь, где человек, где свет.
Жан-Клод Тардиф. «Маленький человек»
I
Памяти Андре Вера
Я не очень-то знаю, с чего начать. Это довольно трудно. Слова ничего не вернут – ни ушедшего времени, ни лиц, ни улыбок, ни ран. Но все-таки надо попытаться. Рассказать о том, что вот уже двадцать лет тяготит мне сердце. Об угрызениях совести и больших вопросах. Мне надо вспороть тайну ножом, как живот, и черпать оттуда горстями, даже если это совершенно ничего не изменит.
Если меня спросят, каким чудом я обо всем этом знаю, я отвечу: знаю, и все тут. Знаю, потому что мне это знакомо, как наступающий вечер, как занимающийся день. Потому что я всю жизнь собирал факты, подгонял их друг к другу и выслушивал, что они скажут, когда заговорят. Когда-то это даже было моим ремеслом.
Я выведу чередой много теней. Но одна из них займет место на переднем плане. Это тень человека, которого звали Пьер Анж Дестина. Он больше тридцати лет был прокурором в В… делал свое дело, как заведенные часы, которые никогда не отстают, не спешат и не ломаются. Настоящее произведение искусства, если угодно, и, чтобы показать себя в наилучшем свете, они не нуждались ни в каком музее. В 1917 году, когда случилось это Дело (как его у нас все называли, подчеркивая заглавную букву вздохами и ужимками), Дестина было уже больше шестидесяти, и за год до того он вышел в отставку. Это был высокий, сухопарый, похожий на птицу мужчина, холодный, величественный и отстраненный. Он мало говорил, но производил большое впечатление. У него были светлые глаза, казавшиеся неподвижными, тонкие губы безо всяких усов, высокий лоб и седоватые волосы.
Город В… от нас всего километрах в двадцати. Но двадцать километров в 1917 году были чуть не краем света, особенно зимой, да еще с этой войной, которая все никак не кончалась, загромождая дороги грузовиками и ручными тележками, донося вонючий дым и множество раскатов грома, поскольку фронт проходил совсем рядом, даже если в наших краях он и воспринимался как невидимое чудовище, скрытая страна.
Дестина называли по-разному, это зависело от места и людей. В тюрьме В… например, большинство заключенных прозвали его Кровопийцей. В одной из камер я даже видел его портрет, нацарапанный ножом на толстой дубовой двери. Вышло, впрочем, довольно похоже. Надо сказать, что художник вполне успел налюбоваться оригиналом за те две недели, что его судили. Мы же, встречаясь с Пьером Анжем Дестина на улице, величали его «господин Прокурор». Люди приподнимали свои картузы, а простые женщины приседали. Остальные, важные господа, к кругу которых он принадлежал, слегка наклоняли голову, словно птички, когда пьют из водостоков. Все это ничуть не трогало господина Прокурора. Он либо совсем не отвечал, либо отвечал так незаметно, что понадобилось бы четыре хорошенько отполированных монокля, чтобы заметить, как шевельнулись его губы. Но это было не от презрения, как полагало большинство, а просто, думаю, из безразличия.
Как бы там ни было, нашлась одна юная особа – об этой девушке я еще расскажу, – которая почти поняла его и называла Печальным. Но только она одна. Быть может, из-за нее-то все и случилось, но сама она об этом так никогда и не узнала.
Прокурор в начале века еще считался важной фигурой. А во время войны, когда одна пулеметная очередь способна скосить целую роту готовых на все молодцов, требовать смерти одного-единственного человека, да к тому же закованного в кандалы, отдавало кустарничеством. Не думаю, что им двигала жестокость, когда он получал голову бедняги, прикончившего почтового служащего или зарезавшего тещу. Дестина видел перед собой лишь кретина в наручниках между двумя жандармами и едва замечал его. Он смотрел – как бы это сказать – сквозь него, словно того уже не существовало. Когда перед ним оказывался преступник во плоти, он не ярился против него, не бушевал, но отстаивал некую идею, просто идею, от которой ему было ни холодно ни жарко.
По оглашении приговора осужденный вопил, плакал, неистовствовал, порой воздевал руки к небесам, словно вдруг вспомнив уроки Закона Божьего. Дестина его уже не видел. Убирал в портфель свои заметки, четыре-пять листков, на которых мелким изысканным почерком фиолетовыми чернилами была набросана его обвинительная речь – горстка отобранных слов, чаще всего заставлявших содрогнуться публику и призадуматься присяжных, когда те не спали. Всего несколько слов, но их было довольно, чтобы возвести эшафот быстрее и надежнее, чем это сделали бы два плотника за неделю. Раз – и готово.
Он не питал зла к приговоренному, он его тут же забывал. И вот вам доказательство: я собственными глазами видел, как по окончании процесса Дестина, шествуя по коридору с видом Катона, облаченный в свою прекрасную, подбитую горностаем мантию, столкнулся с тем, кого только что повенчал с Вдовой
[1]
. Тот жалобно его окликнул. Глаза несчастного были еще красны после объявления приговора, и он, конечно, наверняка уже сожалел о зарядах, которые всадил из ружья в живот своему хозяину. «Господин Прокурор, – стонал он, – господин Прокурор…» И Дестина, глядя осужденному прямо в глаза, словно не замечая ни жандармов, ни наручников, ответил, положив ему руку на плечо: «Да, друг мой, мы ведь, кажется, уже встречались, не так ли? Чем могу служить?» И это без всякой насмешки, все совершенно искренне. После чего бедняга уже не оправился. Это было все равно что второй приговор.
После каждого процесса Дестина шел отобедать в трактир «Ребийон», что напротив собора. Владеет им толстяк, у которого во рту полно плохих зубов, а голова похожа на кочешок желто-белого бельгийского эндивия. Зовут трактирщика Бурраш. Он не шибко умен, но хватка в денежных делах у него есть. Такова уж его натура. Тут его не за что осуждать. На нем всегда большой синий фартук, в котором он выглядит как перетянутая обручами бочка. Раньше у Бурраша была жена, никогда не встававшая с постели из-за болезни, немочи, как у нас говорят, а у нас и ноябрьские туманы довольно часто путают с недомоганием. С тех пор она умерла, не столько от своего недуга, к которому, наверное, в конце концов притерпелась, сколько из-за случившегося, из-за Дела.
В то время дочки Бурраша были как три маленькие лилии, но капелька чистой крови до того усиливала яркость их щечек, что они прямо обжигали. Самой младшей и десяти лет еще не сравнялось. Не повезло ей. Или, наоборот, быть может, слишком повезло. Кто знает?
Если двух других звали только по именам, Алина и Роза, то младшую все дружно окрестили Красавицей, а некоторые, желавшие показать себя поэтами, – даже Денной Красавицей
[2]
. Когда все три были в зале, разносили графины, литровые бутыли вина и приборы среди десятков мужчин, громко говоривших и слишком много пивших, мне при взгляде на этих девочек всегда казалось, что кто-то обронил цветы в злачном месте. А младшая выглядела особенно свежей – настолько, что я всегда представлял ее вдали от нашего мира.