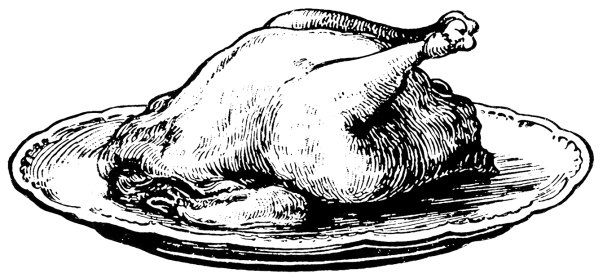Пошел второй час, и стали заметны некоторые признаки нетерпения: гости с беспокойством переглядывались, а первыми возроптали трое-четверо из тех, кто, не найдя себе места, чтобы сесть, оказались в неудобной для ожидания позиции.
На третьем часу недовольство стало повальным, жаловались теперь все. «Когда же он вернется?» – спрашивал один. «О чем он только думает?» – вторил ему другой. «Умереть можно!» – присовокуплял третий. И все изводили себя следующим вопросом: «Уйти или остаться?» – так и не находя ответа.
На четвертом часу все симптомы усугубились: гости разводили руками, случайно заезжая соседям в глаза, со всех сторон слышались завывающие позевывания, все лица окрасились в цвета, выдававшие крайнюю сосредоточенность, и никто не слушал меня, когда я отважился заявить, что тот, чье отсутствие нас так печалит, без сомнения, самый несчастный из всех.
Ожидание разнообразило появление одного из приглашенных, завсегдатая дома, бывавшего тут чаще других. Он пробрался до самой кухни и теперь вернулся оттуда, совершенно запыхавшись и с физиономией, предвещавшей конец света. Едва переступив порог, бедняга воскликнул – тем глухим, задушенным голосом, который выдает одновременно страх произвести шум и желание быть услышанным:
– Его высокопревосходительство уехал, ни о чем не распорядившись, так что, сколько бы ни продлилось его отсутствие, на стол будут подавать, только когда он вернется!
Едва он это пролепетал, как его краткая речь вызвала такой ужас, какой не произвел бы и трубный глас Страшного суда.
Среди всех этих мучеников самым несчастным был добряк Эгрефёй, которого знал весь Париж; тело несчастного превратилось в воплощенное страдание, а на лице была написана мука Лаокоона. Бледный, потерянный, он рухнул в кресло, скрестил маленькие ручки на своем большом животе и закрыл глаза, но не для того, чтобы спать, а чтобы дожидаться смерти.
Но она так и не пришла.
Около десяти часов послышалось, как по двору катится карета; все вскочили в едином порыве. Уныние сменилось веселостью, и через пять минут все уже сидели за столом.
Однако время было упущено – аппетит уже прошел. На лицах читалось изумление, поскольку обед начался в столь неподобающий час, а в движении челюстей вовсе не наблюдалось той замечательной синхронности, которая свидетельствует об их правильной работе; и я понял, что некоторые сотрапезники явно испытывают дурноту.
В подобных обстоятельствах – то есть сразу после устранения препятствия – рекомендуется вовсе не есть, но выпить стакан подслащенной воды или чашку бульона, чтобы успокоить желудок, после чего подождать еще двенадцать-пятнадцать минут, иначе сведенный судорогой орган окажется под гнетом перегружающей его пищи.
Могучие аппетиты
25. Когда читаешь в древних книгах о приготовлениях, которые делались, чтобы принять двоих-троих приглашенных, а также о непомерных порциях, которые подавали одному-единственному гостю, охотно веришь, что люди, жившие ближе нас к колыбели мира, были наделены гораздо бóльшим аппетитом, чем мы.
Тогда считалось, что аппетит напрямую зависит от высоты сана принимаемой особы, и если кому-то подавали целую спину пятилетнего быка, то и пить ему полагалось из тяжеленного кубка, который он едва мог удержать на весу.
Но и с тех пор на свете жило немало таких индивидов, которые дали нам представление о происходившем в стародавние времена, да и книги переполнены примерами почти невероятной прожорливости, которая вдобавок распространялась на все, даже на самые отвратительные вещи.
Я пощажу своих читателей, избавив их от довольно отталкивающих подробностей, и взамен поведаю им о двух необычных фактах, которым сам был свидетелем, и не потребую от них слепого доверия.
Лет сорок назад я отправился в Бреньерский приход навестить тамошнего священника, человека немалого роста и чей аппетит славился во всем бальяже
[42].
Хотя едва наступил полдень, я нашел кюре уже за столом. Как раз унесли суп и разварное мясо, а после этих двух обязательных блюд подали жиго по-королевски, отменного каплуна и обильную порцию салата.
Как только я появился, он попросил принести для меня прибор, от чего я отказался, и правильно сделал, поскольку он и в одиночку, без всякой посторонней помощи, очень проворно со всем расправился, а именно: с жиго вплоть до кости, с каплуном тоже до самых косточек и с салатом – до самого дна глубокой миски.
Вскоре принесли довольно большой круг молодого сыра, в котором он проделал угловую брешь в девяносто градусов, запил все это бутылкой вина, графином воды и лишь после этого передохнул.
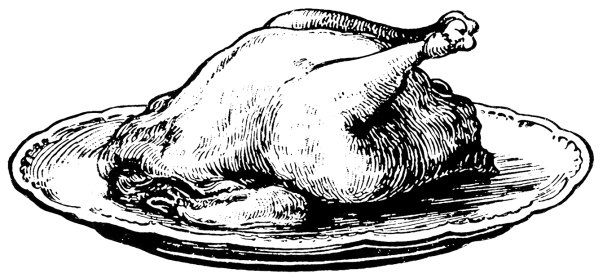
Что доставило мне особое удовольствие, так это то, что в течение всего этого действа, которое длилось почти три четверти часа, достопочтенный пастырь совершенно не выглядел озабоченным. Здоровенные куски, которые он забрасывал в свою широченную глотку, нисколько не мешали ему ни говорить, ни смеяться; он отправил туда все, что перед ним стояло, церемонясь с этим не больше, чем если бы ему предстояло съесть трех мелких пичужек.
Точно так же генерал Биссон, выпивая каждый день за едой по восемь бутылок вина, выглядел так, будто вовсе к ним не прикасался. Его бокал был больше, чем у других, и он чаще других его опустошал; но можно было подумать, что генерал не обращает на это никакого внимания, и, несмотря на шестнадцать фунтов жидкости, которые он беспрестанно вливал в себя, это не мешало ему ни шутить, ни отдавать приказы, словно им выпивался всего один графинчик.
Второй факт заставляет меня воскресить в памяти храброго генерала Проспера Сибюэ, моего земляка, который долго был первым адъютантом генерала Массена́ и пал на поле битвы в 1813 году при переправе через реку Бобер в Силезии.
Просперу было тогда восемнадцать лет, и природа наделила его тем счастливым аппетитом, посредством которого она заявляет, что вполне довершила создание ладно скроенного и крепко сбитого человека. И вот однажды он явился на кухню в трактире Женена, где старожилы Белле по обыкновению собирались, чтобы отведать каштанов, запивая их молодым белым винцом, которое там называют «ворчливым».
В тот момент только что сняли с вертела великолепную индейку – красивую, золотистую, зажаренную в самый раз и чей приятный запах стал бы искушением даже для святого.
Старики, уже успевшие утолить голод, не обратили на это большого внимания, но у юного Проспера все его пищеварительные органы, могучие от природы, были совершенно потрясены. Рот его наполнился слюной, и он воскликнул:
– Хоть я только что из-за стола, но бьюсь об заклад, что в одиночку съем этого индюка!
– Sez vosu mesé, z’u payo, – ответил Бувье дю Бюже, толстый фермер, который там случился, – è sez vos caca en rotaz, i-zet vos ket pairé et may ket mezerai la restaz
[43].