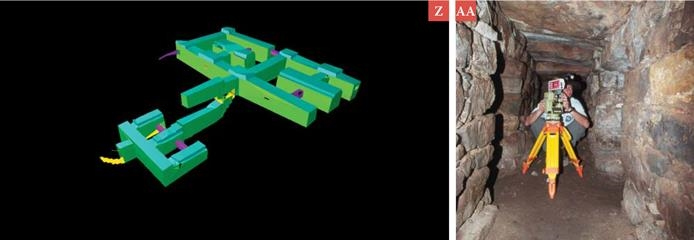По-видимому, влияние архитектуры на музыку и звук может быть взаимным. Подобно тому, как акустика в пространстве определяет эволюцию музыки, акустические свойства, особенно те, которые воздействуют на человеческий голос, могут определять строение и форму зданий. Мы все слышали о концертных залах, спроектированных так, чтобы поющего или говорящего с центральной сцены человека было слышно без всякого звукоусиления в самых задних рядах. Карнеги-холл, к примеру, настолько сосредоточен на этой цели, что не особенно приспособлен к другим видам звуков, особенно перкуссионным. Но для голоса и инструментов, имитирующих человеческий голос, такого рода среда создает сакральное пространство, которое люди находили привлекательным на протяжении тысяч лет.
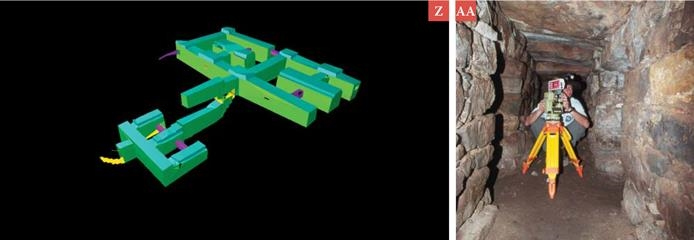
Глава вторая
Моя жизнь на сцене
Процесс написания музыки извилист и тернист. Некоторые композиторы пользуются нотной записью – специальной системой знаков, понятной большинству музыкантов. Даже если в процессе используется вспомогательный инструмент (чаще всего фортепиано), этот род музыки возникает в письменном виде. Позже исполнители или композитор могут внести изменения в партитуру, но сам процесс в основном обходится без участия музыкантов. А не так давно музыку научились создавать механически или в цифровой форме, путем приращения и наслоения звуков, семплов, нот и битов информации, собранных вместе физически или в виртуальном компьютерном пространстве.
Хотя бóльшая часть моей собственной музыки изначально была написана в полной изоляции, к своей окончательной форме она приблизилась лишь в результате живого исполнения. Подобное происходит у джазовых и фолк-музыкантов: нужно бросить все в воронку сцены, чтобы понять, утонет ли музыка, поплывет или вдруг даже полетит. В средней школе я играл с друзьями в самодеятельных группах. Мы переигрывали популярные песни, но в какой-то момент – весьма вероятно, после того как во время школьной «битвы групп»
[18] какой-то соперник выдернул вилку из розетки во время нашего выступления, – я решил играть один.
Потратив сначала некоторое время на переосмысление и на изучение еще большего количества чужих песен у себя в спальне, я зачастил в кафе местного университета и увидел, что фолку, который там исполняли, срочно требуется новая кровь. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Был конец 1960-х, и я все еще учился в школе, но уже тогда любой мог видеть и слышать, как присущий фолку пуризм сметается потребностью в роке, соуле и поп-музыке. Тамошний фолк был весьма неэнергичным, как будто исповедальный тон и присущая фолку искренность подрывали его силы. Так быть не должно!
Я решил исполнять на акустической гитаре рок-песни моих на тот момент любимых групп – The Who, Crosby, Stills & Nash и The Kinks. Некоторые из этих песен были столь же честны, как и фолк, который так любили посетители кафе, и в этом заключался мой шанс достучаться до слушателей. Припоминаю, что это сработало: они почему-то никогда не слышали этих песен! Все, что я сделал – перенес песни в новый контекст. Из-за того, что я исполнял их более энергично, чем подавал собственный материал рядовой фолк-артист, люди прислушивались, а может быть, они просто были ошеломлены наглостью юного выскочки. Я играл на укулеле Чака Берри и Эдди Кокрана, сдвигая контекст еще дальше. Как-то раз я даже набрался смелости запилить несколько надгробных плачей на скрипке, доставшейся мне в наследство. Получилась причудливая, но уж точно не скучная мешанина.
В то время я был невероятно застенчив и оставался таким в течение многих лет, отчего сразу возникает вопрос (и у многих он возникал), с какого перепугу этот интроверт вылез на сцену. (Сам я в то время себе таких вопросов не задавал.) Оглядываясь назад, думаю, что, как и многие другие, я решил, что, выставляя свое искусство на публику (ну или переигрывая чужие песни, как в тот момент), я как бы пытался на свой лад завязать разговор, а то в «светской» болтовне я уж очень был неловок. Казалось, это не только возможность «говорить» на другом языке, но и хороший способ начать обычный диалог: другие музыканты и даже девушки (!) обязательно захотят пообщаться с тем, кто только что выступал на сцене.
Ничего другого, кроме как выступать, мне и не оставалось. Маячила также отдаленная возможность, что я ненадолго стану героем и получу некоторые социальные и личные награды в других областях, помимо общения, хотя сомневаюсь, что признался бы в таких чаяниях даже самому себе. Бедная Сьюзан Бойл, как я ее понимаю. Несмотря на все это, Отчаянный Дэйв не метил в профессиональные музыканты – это казалось совершенно нереальным.
Годы спустя я диагностировал у себя очень легкую (как мне кажется) форму синдрома Аспергера. Выскочить на публику, чтобы сделать что-то дико выразительное, а затем быстро заползти обратно в панцирь, казалось чем-то нормальным для меня. Может быть, «нормальным» – не самое точное слово, но мне подходило. Феликс Пост в 1994 году опубликовал в The British Journal of Psychiatry статистику, из которой следовало, что 69 % творческих людей, которых он изучал, страдали психическими расстройствами
[19]. Как много психов! Этот факт, безусловно, питает миф о полоумном артисте, управляемом демонами, но я, напротив, очень надеюсь, что не нужно быть сумасшедшим, чтобы творить. Возможно, какая-то проблема и дает толчок в начале пути, но я пришел к выводу, что можно убежать от своих демонов и не лишиться при этом источника вдохновения.
Когда в начале 1970-х я учился в художественной школе, я начал выступать с одноклассником Марком Кехо, который играл на аккордеоне. Я бросил акустическую гитару и сосредоточился на укулеле и моей наследной скрипке, которая теперь была вся в наклейках с красотками в купальниках. Мы играли в барах и на художественных вернисажах, вместе путешествовали по стране и в конце концов зависли на Телеграф-авеню в Беркли. Промышляли музыкой, как говорят британцы. К этому моменту у нас сложился определенный образ, вариация на тему «иммигранты из Старого Света» – думаю, так можно это описать. Марк смахивал на выходца из Восточной Европы, а я тяготел к старым костюмам и фетровым шляпам. В то время у меня была всклокоченная борода, и однажды молодой черный парень спросил меня, не из тех ли я людей, что не ездят в машинах.
Исполняли мы в основном стандарты. Я пел “Pennies From Heaven” или “The Glory of Love”, а также наши собственные аранжировки более современной музыки, например “96 Tears”. Иногда Марк просто играл музыку, а я принимал нелепые позы, чаще всего стоя на одной ноге и не двигаясь. Кто угодно мог бы делать то же, но мне – или моей «сценической персоне» – это казалось достойным шоу. Мы смекнули, что за короткое время сможем заработать себе на еду и бензин для старой машины, которую я прикупил в Альбукерке. Можно сказать, что отклики на уличное представление были мгновенными: люди либо останавливались, смотрели и порой даже давали деньги, либо шли дальше. Думаю, именно тогда я понял, что в выступлении можно смешивать иронию с искренностью. Противоположности могут сосуществовать. Сохранять баланс между ними нелегко, сродни ходьбе по канату, но вполне осуществимо.