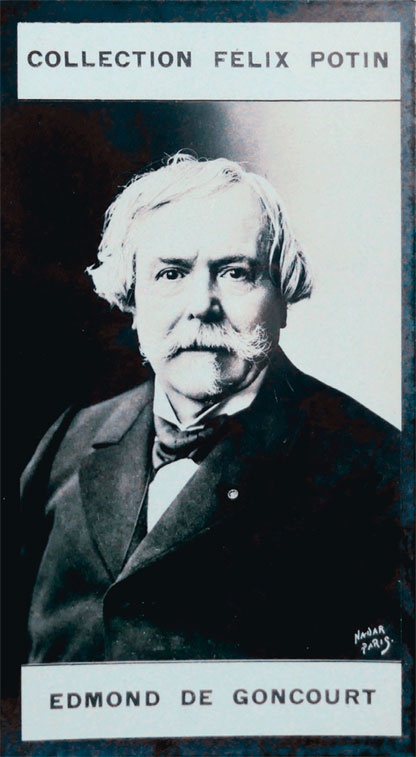Такого человека выносили с трудом, но и принимали с радостью. Он говаривал: «Что такое порок? Всего лишь предпочтение, которое вам не близко». Подобно Уайльду, он был из тех, чье бьющее через край, шумное эго веселило одних, смущало других и тревожило тихих содомитов, которые ценили приватность и боялись полицейского фургона. Это признавал и Леон Доде: «Если не брать в расчет заключительный скандал, то случай Лоррена чрезвычайно схож со случаем Оскара Уайльда, которого английское светское общество терпело и даже восхваляло, считая его „джентльменом-оригиналом“, пока не раскусило в нем настоящего морального сумасброда». И все же Уайльд и Лоррен (который впервые увидел британского эстета в 1893 году, когда тот приехал покорять Париж) не сошлись характерами: вероятно, и тому и другому претило все время смотреть в зеркало. Уайльд изрек: «Лоррен – позер». Лоррен отозвался об Уайльде: «Он – притворщик».
Многие называли Лоррена «Монтескью для бедных», отчего он, конечно, впадал в ярость. Его так и тянуло провоцировать графа: в своих газетных колонках он именовал его «Гротескью» и «Робер Машер»
[54]. В 1901 году Лоррен создал вторую литературно-теневую версию Монтескью в своем романе «Господин де Фокас»; впрочем, тяготея к излишествам, Лоррен ввел в роман не одного, а троих двойников графа. И все равно не сумел пробить броню равнодушия Монтескью: тот не отвесил ему пощечину, не бросил перчатку, не высказал ожидаемого признания, не проявил ожидаемой агрессии – не сделал ничего такого, что хотя бы косвенно могло указать на их равенство.

У Сары Бернар: Жан Лоррен в образе умирающего воина
Нетрудно предположить (благодаря или вопреки тому восторженному посланию), что Лоррен лично знал Гюисманса, равно как и другого романиста-католика, Леона Блуа. В отношении тех двоих он преступил черту в другой сфере – в религии. Лоррен не на шутку увлекался сатанизмом и черной магией; он повел за собой Гюисманса по пути оккультизма, злых чар, войны против розенкрейцеров и так далее. Журналист, направленный к Гюисмансу, чтобы взять интервью, очень удивился, когда писатель показал ему какую-то «мазь для экзорцизма» и объяснил, что в ее состав входят мирра, ладан, камфора и гвоздика – растение Иоанна Крестителя. Но здесь Лоррен, в глазах романиста-католика, уже не ограничивался оскорблением общественных норм; он вторгался в область бессмертной души.
Со временем Гюисманс (как и его детище – дез Эссент) почувствовал зов Церкви и в 1891-м, за год до своего официального возвращения в лоно католичества, послал Лоррену такую отповедь:
Сегодня вечером в кафе я просматривал старые номера «Ле Курьер франсэ». Лоррен! Лоррен! Если ты столь преднамеренно богохульствуешь, то, когда пробьет твой час и ангелы в кожаных камзолах и двуконечных шляпах заберут тебя «наверх», тебе, вне сомнения, будет вынесен самый суровый приговор. Берегись! Берегись!
В марте 1906-го, за несколько месяцев до смерти Лоррена, Блуа напишет в своем дневнике: «Мне принесли некую книгу. Называется она „Пьесы Жана Лоррена“. С недавним портретом. Это облик распутника, проклятой души, зловонного врага Славы и Вечной Жизни. Какой-то страшный сон».
При всех своих общественных, моральных, юридических и метафизических прегрешениях, Лоррен, единственный ребенок в семье, много лет оставался примерным сыном и жил в Отёе со своей матерью. Это была дама устрашающей внешности: Леон Доде звал ее Сикораксой – как мать Калибана. Было всего три человека, которым вертопрах Лоррен всегда хранил верность (в меру своих возможностей): это его мать, Эдмон де Гонкур и доктор Поцци.
Как-то раз Леон Доде, который тоже жил в Отёе, поинтересовался у Гонкура: «Мсье Гонкур, как вы терпите этого жуткого типа? От одного его вида мне делается дурно». – «А куда деваться, милый юноша, – ответил Гонкур. – Отёй находится в отдалении от города, и зимними днями я здесь совсем один. Лоррен забавляет меня своей болтовней». Эту болтовню Гонкур время от времени заносит прямо в дневник. Где также отмечает, что Лоррен – «истеричный, коварный сплетник». В разговорах с Альфонсом и мадам Доде он поносит Гонкура, а затем поносит чету Доде в разговорах с Гонкуром, отдавая себе отчет (какой-то частью своего мозга), что они будут обмениваться впечатлениями. Гонкур часто задумывался об истоках такого поведения и пытался понять, чтó служит для Лоррена главным побудительным импульсом: «злоба или полная бестактность». Лоррен и сам задавался этими вопросами и нашел такое объяснение: весь Париж злонамеренно сбивает его с истинного пути поэта. «Вот свиньи! – воскликнул однажды он. – Низвели меня до журналиста!»
Гонкуровский дневник служит ценнейшим документом эпохи. Его создавали два брата, Эдмон (1822–1896) и Жюль (1830–1870). Неразлучные в жизни (если им и случалось расставаться, то лишь на несколько часов, и, было время, они даже содержали одну любовницу на двоих), братья неразлучны и на страницах «Дневника», где объединяются в общем «я». Эстеты, коллекционеры, драматурги, критики, романисты, они пристально разглядывали каждый пласт общества: низшие сословия, буржуазию, аристократию. Слабые здоровьем, оба по-человечески мучились печенью, желудком и нервами; оба по-писательски недолюбливали свою эпоху, предпочитая галантный XVIII век, ценили высокие идеалы и тонкие чувства, зачастую обостренно и гневно взирали на деяния этого мира. Эдмон признает: «…мы были существа страстные, нервные, болезненно впечатлительные, а следовательно, порой и несправедливые». В октябре 1866 года Жюль пишет Флоберу: «Мы и Готье втроем составляем укрепленный лагерь чистого искусства, этических принципов красоты, равнодушия к политике и скепсиса по отношению к прочей бессмыслице – я имею в виду религию».
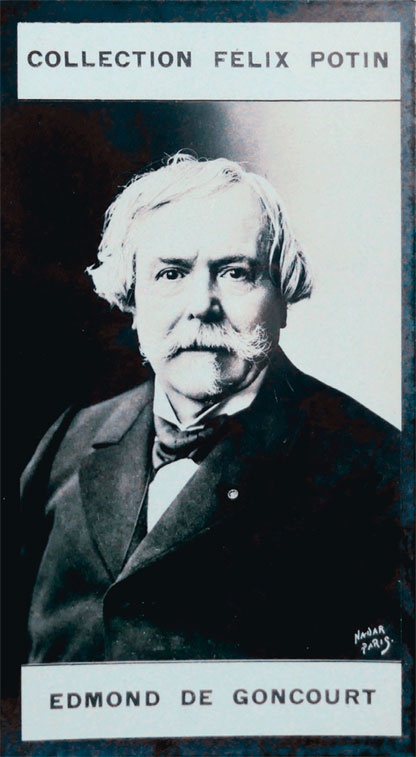
Первая совместная запись братьев Гонкур датирована вторым декабря пятьдесят первого: это был день выхода их дебютного произведения «В 18…». К несчастью для них (но к счастью для «Дневника»), в тот же день произошел устроенный Луи-Наполеоном государственный переворот, вызвавший, в частности, трепет всех издателей и печатников; из-за этого книга «В 18…» не рекламировалась и не находила спроса; в итоге разошлись только жалкие шестьдесят экземпляров. Братья обыкновенно вели дневник в ночи, когда стихали дневные страсти (этот последний случай – не в счет): Эдмон стоял, а Жюль садился заносить на бумагу их общие впечатления и все, что врезалось в память. Записи велись тщательно, подробно, хотя и не всегда соответствовали истине. Общий замысел подытожил Эдмон:
Итак, мы стремились сохранить для потомства живые образы наших современников, воскрешая их в стремительной стенограмме какой-нибудь беседы, подмечая своеобразный жест, любопытную черточку, в которой страстно прорывается характер, или то неуловимое, в чем передается само биение жизни, и, наконец, следуя хотя бы отчасти за лихорадочным ритмом, свойственным хмельному парижскому существованию
[55].