Может быть, поэтому давно ушедшие стали мне ближе живых. Я не хотела бы вернуть их, ведь именно их отсутствие мне в них больше всего нравится. Мертвые никогда не присутствуют в этом мире целиком, а именно эта полнотелость претит мне в живущих. Мы слишком зримы. Между тем, самая сокровенная часть меня принадлежала хрустальному миру, существующему за пределами моего существа, а может, даже была этим миром. Ветки и ягоды… Зачем утяжелять их плотью и костями? Мясом человеческим? Моя прежняя форма казалась мне слишком плотной. Лучше всего умереть от истощающей болезни, решила я; истаять, иссохнуть, истончиться. Стать тенью и смотреть на мир сквозь свою прозрачную плоть. И, достигнув хрустальной прозрачности, умереть.
Но я не умерла. Поэтому я и обратилась к призракам. Ибо есть ли лучший способ избавиться от своего присутствия, чем впустить в себя кого-то другого? Признаюсь, мне было даже все равно, что они говорят; главное, чтобы они говорили. Я уже давно подозревала, что слова, доступные пониманию, не могут быть чужды человеку или вредны ему. Призраки говорят языком живущих или молчат. Было бы странно, если бы мое предположение не оправдалось. Но все это не имело значения. В разговорах с призраками меня всегда влекло другое: ощущение пустоты. Впуская их в себя, я ощущала себя не куском мяса в платье, а отверстием. Я могла пройти сквозь это отверстие – а может быть, уже прошла – и наконец попасть в мир.
Я писала эти строки с таким чувством, что перо прорвало бумагу и застряло (видите эту дыру?). Я выдернула его, но слишком резко, и оно отлетело в кучу сухой листвы, откуда я его достала, но как долго я искала его там – не знаю. Может ли сухой лист содержать в себе целый мир? Способен ли он удовлетворить жажду, что копилась в нас годами? Сомневаюсь. Но эту возможность нельзя исключать. Лист хрустит в руке, рассыпается на трапециевидные сегменты и пыль. Его скелет, все еще гибкий, похож на кисть с растопыренными пальцами. Но эти строки – лишь описание листа. Вы знаете, как выглядит настоящий лист. Листья окружают вас. Вы же мертвы. Вы сами стали листом.
Вот, пожалуй, и все,
Директриса Джойнс
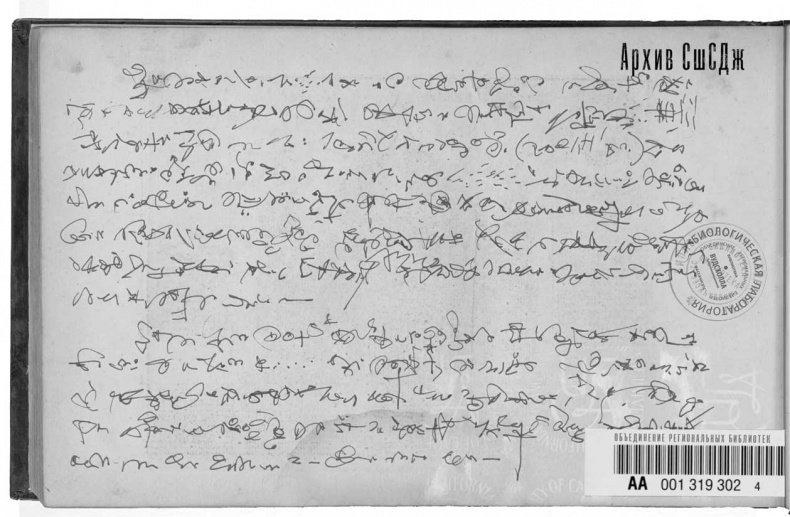
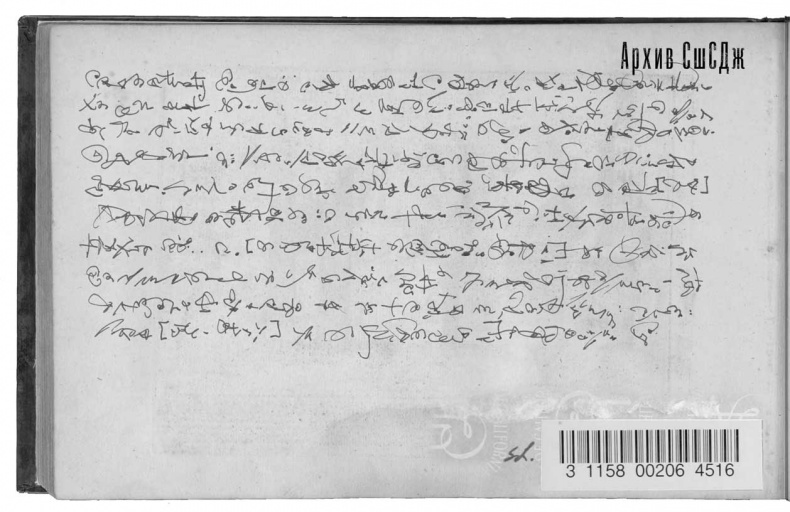
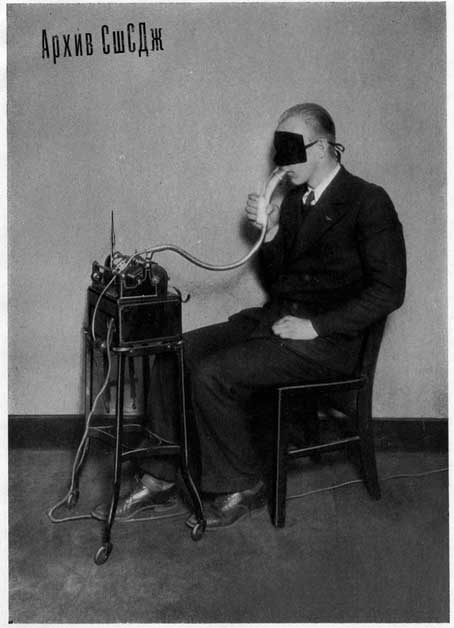
6. Последнее донесение (продолжение)
Тропа, овраг, поля, чертополох напоминают мне о чем-то. Дай мне минуту, постараюсь вспомнить. Впрочем, странно, если бы все не напоминало бы мне обо всем. Ты, к примеру, напоминаешь мне девочку, за которой я гонюсь. Девочку по фамилии Финстер. А твоя фамилия – Грэндисон, если мне не изменяет память. Несмотря на свою юность, вы обе похожи на маленьких старушек, но старушек совершенно разных. Одна спокойна, работяща, рассудительна (ты), другая – хитра, дерзка и полна злобы. Взгляд у обеих проницательный и осуждающий, лоб – высокий, покатый, волосы – курчавые и черные. Ловкие пальчики всегда при деле: теребят пуговицы, ковыряют коросту, нажимают на клавиши. В остальном вы совсем разные: у тебя темная кожа, у нее – белая с нездоровой желтизной; ты почти вдвое выше нее. Пожалуй, главное, что вас объединяет – то, как я смотрю на вас. От вас обеих мне что-то нужно, хотя что именно мне нужно от нее – пока не знаю.
От тебя мне нужен слух. Твои уши и пальцы, которые нанизывают мои слова на нить повествования, как бусины. Благодаря им я бегу вперед по странице навстречу девочке, которая, должно быть, уже близко, может быть, уже на следующей странице, или через одну – я слышу шум, и если это не черви, то определенно шаги. Скорей, скорей! Переверни страницу!
Но нет, я снова запуталась. Ты не можешь перевернуть страницу, которая еще не напечатана, и посмотреть, что там написано. Время не позволяет таких искажений.
Но погоди-ка! Если все, что я говорю, сбывается, значит – слушай внимательно! – значит, я могу сказать, чем она занята там, через две страницы от меня. «Через две страницы от меня она шагает по усаженной кипарисами дороге» – скажи я так сейчас, это осуществится? Быть может, уже осуществилось? Значит ли это, что я могу влиять на будущее?
И если так, могу ли я словами загнать ее в угол и заставить дожидаться меня?
Я могла бы сказать, что через две страницы девочка идет по белому листу и гравий хрустит у нее под ногами. Она пинает камень, и тот ударяется о следующее предложение, в котором в общих чертах и с пренебрежением к деталям описана форма карнизов и слуховых окон на фоне синего неба. В этом описании читатель, несомненно, узнает здание Специальной школы, а в следующем за ним придаточном предложении – болотистую пустошь, поросшую чертополохом и тянущуюся до самых холмов на горизонте.
Так вот что это было.
Не успевает Финстер коснуться ручки, как дверь перед ней распахивается; на пороге никого. Она слышит далекий гул – вероятно, звук моего голоса вперемешку со стуком пишущей машинки – тап-тап-тап. Хотя, может, это ветка дерева ритмично бьется о стекло, затем замирает и начинает биться снова – тап-тап-тап. Девочка заходит. Страницей-двумя позже в ту же дверь следом за ней заходит степенная дама с сосредоточенным и осунувшимся лицом. Это я, хотя в сейчас я еще даже не выбралась из оврага и не поднялась на первый холм, откуда видно главное здание школы, стоящей на небольшом возвышении, и игровое поле перед ним. Меня по-прежнему отделяет от него довольно большое расстояние, и оно скрыто за деревьями; в тени их крон темно, прохладно и сыро даже в летнюю жару. Совсем скоро в поле зрения появятся первые кипарисы по обе стороны от подъездной дорожки; темно-зеленые продолговатые штрихи. Теперь можно идти медленнее; панорама сужается, обрастает густым кустарником по краям и обрывается с поворотом дорожки, огибающей небольшое углубление в земле – то самое, что по весне наполняется водой и превращается в болото, а к середине лета – в вонючую лужу застывшего ила, где плодятся гигантские длинноногие медлительные комары и лягушки, которые, по рассказам, вполне годятся в пищу. Мое описание вполне натуралистично. В солнечный день, когда тень от человеческой фигуры ложится на нежащихся на солнце лягушек, те подпрыгивают ввысь. В это время года головастики еще не лишились хвостов, и лягушек на дорожке быть не может, но позже любой посетитель школы может видеть их в большом количестве, впрочем, как и слышать, как они шмякаются головами о колеса проезжающих автомобилей, в бестолковости своей подвергая себя большей опасности, чем если бы они просто сидели на месте и ждали, пока набежавшая тень не промелькнет мимо. Но вот болото позади (или останется позади, когда я там окажусь), и мы на небольшом возвышении, откуда видно красное кирпичное здание, пылающее в лучах раскаленного солнца, как обнаженное сердце.
Никак не пойму, с чего я вдруг взялась повторять проверенные формулы нашей достопочтенной проводницы мисс Кэвендиш, которая работает у нас на полставки с незапамятных времен, и пытаться вернуть прошлое, хотя должна предвосхищать будущее. Только здесь, в этом краю, прошлое может становиться будущим. В краю, где времени не существует вовсе, нет смысла проводить различия между прошлым, будущим и настоящим. Они здесь настолько неважны, что порой я задаюсь вопросом, есть ли закон, препятствующий будущему наступить здесь раньше времени. В краю мертвых все времена сосуществуют, а следовательно, мой призрак уже бродит где-то рядом, он был здесь всегда; держал мне теплое местечко, как закладка в книге.

