Я еще не говорил о музыке. Вскоре после своего приезда в школу пасмурным утром я пробудился от сна, слишком краткого и глубокого, и, все еще заторможенный спросонья, распахнул оконные створки и выглянул на улицу, чтобы определить источник звука, нарушившего мой покой, – звука, напоминавшего хриплый рёв разъяренного моржа. Я не услышал ничего необычного, но решил отправиться на поиски. Умыв небритые щеки ледяной водой, я накинул пальто прямо на пижаму и в домашних туфлях прошлепал по пустой лестнице к часовне Церкви Слова, в двери которой прошмыгнули несколько опоздавших. Однако в последний момент я передумал – ведь на службу меня не приглашали (тем более, в пижаме), – и, повинуясь импульсу, спрятался в кустах, промочив домашние туфли. Я встал под витражом, который, вероятно, выглядел лучше изнутри и изображал некую жутковатую анатомическую деталь, впоследствии оказавшуюся частью внутреннего уха.
Стоя по щиколотку в траве, настолько мокрой от росы, что казалось, будто я стою в луже, я впервые услышал (если это можно назвать «слышанием») молчаливый хор двадцати шести заикающихся, прерываемый лишь редкими вздохами. Позднее я узнал, что исполняли старую и довольно заезженную мелодию «Песня заикающихся» (если это можно назвать «мелодией»). У меня возникло странное чувство, будто музыку высасывают из моих ушей, а не подают извне. В ней было что-то от песни шарманщика, которую я слышал несколько дней назад, и от упражнений дочери моей домовладелицы, с горем пополам осваивающей «Хорошо темперированный клавир». Бредя обратно к школе по мокрой траве, я чувствовал себя полым. Внутри меня воцарилось безмолвие.
Впоследствии я полюбил эту музыку, в которой конфликт между невозможностью говорить и невозможностью перестать говорить – ключевая характеристика речи заикающихся – возвышен до эстетического принципа.
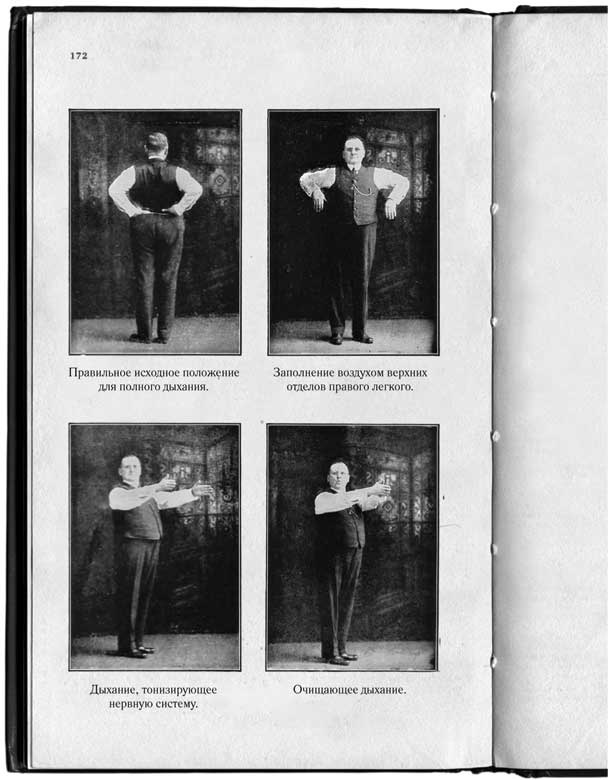
Письма мертвым писателям, № 5
Достопочтенный Натаниэль Готорн!
По ночам я стою у двери в ученическую спальню и представляю, как призраки влетают в раскрытые рты моих подопечных и вылетают из них. Ветер дребезжит в оконных рамах. Здание погружено во мрак. Даже ночной сторож дремлет в своей каморке в промежутках между обходами здания и прилегающей территории. Впрочем, я не возражаю. Я разрешаю ему поспать. Не сплю лишь я одна.
Моя «д», Ева Финстер, спит крепко, уткнувшись лицом в подушку и стиснув зубы, словно сон – занятие, требующее высокой концентрации, а ночь – гроссбух, чьи страницы исписаны цифрами, и ей нужно проштудировать его, чтобы найти одну-единственную ошибку, вкравшуюся в расчеты. Днем у нее такое же выражение лица. Она ничего не понимает, она в ярости; я жду от нее великих свершений.
Вчера я оставила кое-что на столике у ее кровати – куколку из палочек и листьев. Я смастерила ее, прогуливаясь по окрестностям. Такая же кукла была у меня в детстве, моя единственная – отец считал, что игрушки вредны детям. Я не баюкала ее, а прятала в ладони, а потом раздавливала, сжимая кулак.
Вчера вечером куклы на столике уже не оказалось, а сейчас Ева спала и сжимала что-то в руке. Я наклонилась к ее кровати и пригляделась. Это была не кукла, а мягкая игрушка, драная, безглазая и такая бесформенная, что угадать ее принадлежность к тому или иному виду животных не представлялось возможным, как и отличить ухо от лапы. Я аккуратно разжала застывшие пальцы девочки и вытащила игрушку. Ева застонала, но не проснулась.
Хотя я различаю буквы, которые вывожу на бумаге, на террасе, выходящей в сад скульптур, уже очень темно. Надо мной проносятся птицы, яркие, как искры, летящие из горящего здания. Этому есть рациональное объяснение: солнце садится над холмами, я в тени, а птицы – нет.
Сегодня я сожгла игрушку Финстер, пока та орала и бесновалась. Однако так следует поступать со всем, что препятствует нашей цели. Лишь потеряв все, можно полностью открыться мертвым.
Возможно, я проявила чрезмерное усердие, тыкая безжизненную тряпку палкой, хотя та уже сгорела почти целиком; остатки ее изрыгнули густой дым, и у меня заслезились глаза.
Терраса дольше остальных мест в школе остается освещенной, поэтому я направилась туда после сцены с сожжением игрушки, но тьма опустилась раньше, чем я предполагала, а с ней пришел холод. Впрочем, возможно, тут всегда прохладно, даже когда эта часть дома залита солнечными лучами. Холодом веет от каменной плитки и скамьи.
Снующие искры-птицы погасли и теперь похожи на клочья черного пепла, кружащиеся и порхающие на фоне темнеющего неба.
Вдалеке открывается дверь – прямоугольник желтого цвета, – и сгущающаяся тьма становится непроглядной. От большого прямоугольника отделяется малый и плывет от освещенного берега – школы – через сад по направлению ко мне. Это Кларенс; он ищет меня. Сначала он заглянет в беседку. Говорила же: он в беседке. Потом поищет в лабиринте. Верно: он в лабиринте. У входа в лабиринт он остановится. Он останавливается. Окликнет меня. Я его не услышу. Тогда он зайдет в лабиринт и заблудится.
Наступает завтра. Оставив на скамейке перо и письмо, я пошла в лабиринт выручать Кларенса, который был очень рад меня видеть, хоть сначала и встревожился, завидев мою темную фигуру, движущуюся к нему навстречу. Странно, что школьная прислуга, давно привыкшая к таким проявлениям призрачного мира, как стучащие столы, эктоплазма, голоса, тем не менее испытывает глупый и необоснованный страх перед привидениями, обретшими форму, смутно напоминающую человеческую (они думают, что те выглядят как белая простыня на палочке, издающая заунывный стон).
Я решила отвести Кларенса в дом и забыла письмо на террасе на ночь. Вы видите, что с ним стало: оно покоробилось от влаги и подверглось нападению слизняка-книгочея, оставившего на нем свой серебристый след. Обнаружив брошенное письмо во время утренней прогулки, я подобрала перо, окунула в чернильницу и готова была продолжить свое повествование… но забыла, о чем шла речь.
Кажется, я не рассуждала на какую-то конкретную тему; лишь чувство, что что-то клыкастое раздирает мне глотку, не давало мне покоя.
В детстве я любила трясти головой, пока в глазах не потемнеет. Косы били по лицу, слюна размазывалась по щекам. Мне казалось, будто в горле, глазах или ушах – или во всех этих местах одновременно – застрял чужеродный предмет, и я стремилась вытрясти его оттуда. Позже я поняла, что стремилась избавиться не от предмета, а от самой себя. Я была маленькой, но уже встала на путь избавления. Иногда, если память меня не обманывает, у меня даже получалось добиться желаемого и на несколько минут или целых полдня освободиться от себя и очутиться в раю. Воздух там был прозрачным и холодным, ветки – почерневшими, ягоды – алыми, как огонь, заиндевевшие травинки – острыми. Но с возрастом эта способность исчезла, и я перестала даже пытаться проникнуть в этот хрустальный мир. Не потому, что ощущала перед собой препятствие, а потому, что сама стала препятствием; я сама была сфинксом, охраняющим врата.

