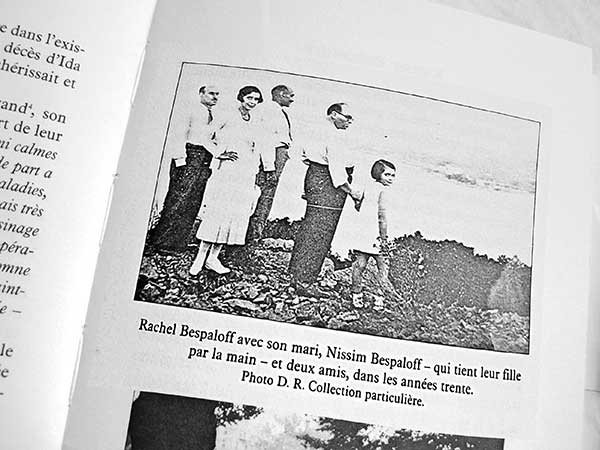В этой статье о Шестове чувствуется что-то очень личное; видимо, долго накапливалось в ней несогласие, разочарование, быть может, и раздражение. Ее главный упрек, или один из главных упреков, отчасти совпадает с бердяевским, но высказан этот упрек решительнее, сильнее и, опять-таки, с гораздо большой личной затронутостью (а ведь Бердяев с Шестовым спорили, как мы уже знаем, целую долгую жизнь; иногда даже кричали друг на друга; расходились с красными от гнева лицами; на другой день опять встречались друзьями – и в том, как Бердяев пишет о своем друге, чувствуется некое благоразумное безразличие: с Шестовым он не согласен, но в каком-то смысле ему все равно; он живет своей мыслью, своими идеями). Н.А.Б., еще раз, упрекал Л.И.Ш. в том, что его философия остается чисто негативной, что все позитивное в ней можно уместить на полстраничке, что шестовский бог – «условная гипотеза», а он сам, при всей своей ненависти к «древу познания добра и зла», не покидает «территорию мышления и разума». Беспалова говорит примерно то же, с совсем другой интонацией, интонацией обманутого ожидания, утраченных надежд и иллюзий. «Я теряю почву под ногами, я задыхаюсь, волна сбивает меня, я тону. А Шестов с берега мне приказывает: „Шествуй по водам, ты это можешь”. Если б дошел до меня этот призыв – до меня, тонущей, – он показался бы мне насмешкой. Только тот имеет право требовать невозможного, кто сам „шествует по водам”, кто и мне дает на это силы. Но Шестов остается на берегу, отказывается осуществить свое пророческое призвание. Он цепляется за философию, за то, что может быть помыслено, высказано…» Я гибну, а мой учитель меня не спасает – вот, в сущности, о чем идет здесь речь, помимо всех теоретических разногласий. Не шествующий по водам Шестов был в ярости (не потому ли, что почувствовал правду этих упреков?). Это я-то остаюсь на берегу? говорил он Фондану. Я приказываю? Я говорю: ты можешь? Да ведь в том-то все и дело. Я не могу; все знают, что я не могу; и я сам слишком хорошо это знаю. А все-таки… вдруг я все-таки могу? вдруг меня обманули? вдруг, если попробовать…? Если бы она по крайней мере написала, что я бегу на помощь тонущему, вместо того, чтобы просто утешать его: ничего, мол, не поделаешь, с необходимостью не поспоришь.
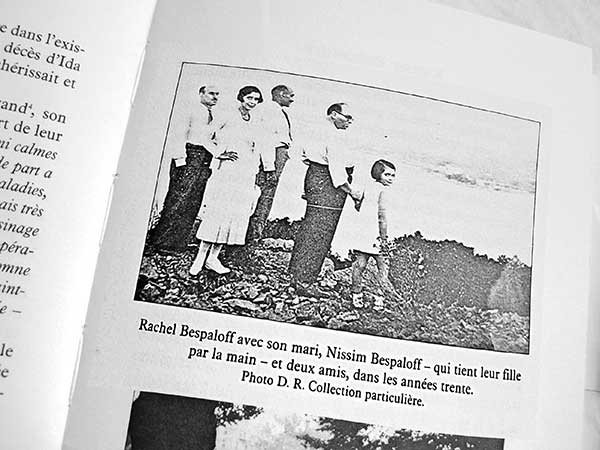
Не написала, потому что не могла написать. И да, Шестов всю жизнь спорил с необходимостью… оставаясь на берегу. А что, собственно, он еще мог сделать? Бросить философию (открытую, незавершенную, полную противоречий) и – что? – уйти в мистическое молчание? созерцание? аскезу? или придумать себе какое-нибудь учение? начать проповедовать? призывать к чему-то и вести кого-то куда-то? Большое счастье, что он не сделал ничего подобного. Он осудил проповедничество еще в своих ранних книгах («Добро в учении гр. Толстого и Ф. Нитше» не зря имеет подзаголовок «Философия и проповедь»). Здесь с ним трудно не согласиться, и Рахиль Беспалова в этом с ним, наверное, соглашалась, хотя она и пишет о его пророческом призвании, sa vocation prophétique. Шестов, как уже сказано, философию отнюдь не бросает, остается на «территории мышления и разума», хотя его книги полны (великолепно… или невыносимо однообразными) проклятиями по адресу этих самых мышления и разума, «древа познания», плоды с которого якобы отторгли человека от «древа жизни» (Шестов тоже, в сущности, мыслит мифологически), отчего он, человек, оказался замурованным в темнице необходимости, общеобязательных истин, морали и разума («дважды два четыре – да ведь это стена», интересно было бы посчитать, сколько раз Шестов цитирует эти слова подпольного человека), откуда он сам, своими силами вырваться, конечно, не может. Человек у Шестова вообще ничего не может. Хотя он и говорит о свободе, о возвращении свободы, по ту сторону общеобязательных истин, хотя и выступает, вслед за Кьеркегором, адвокатом частного против общего, но никакого самостоятельного, противостоящего Богу, способного вступить в диалог с ним человека, у него, мне кажется, нет; по-своему, он тоже монист. Это важно. Его мысль, да, экзистенциальна, но нет, не персоналистична. Вот, пусть читатель простит меня, довольно длинная цитата из итоговой главы итоговой книги Шестова «Киргегард и экзистенциальная философия»; здесь, по-моему, на нескольких страничках всего отчетливее сформулированы его основные идеи: «Человек вкусил от дерева познания и погубил тем себя и все свое потомство: плоды с дерева жизни для него стали недоступны, его существование стало призрачным, превратилось в тень… И все-таки – не человек, а Бог сорвал и вкусил плод от запретного дерева… Он принял на себя грехи всего человечества, Он стал величайшим, ужаснейшим из грешников: не Петр, а Он отрекся, не Давид, а Он прелюбодействовал, не Павел, а Он преследовал Христа, не Адам, а Он сам сорвал яблоко. Но для Бога нет ничего непосильного. Грех Его не раздавил. Он раздавил грех. Бог единственный источник всего: перед его волею склоняются и падают ниц все вечные истины и все законы морали. Потому, что Бог хочет, – добро есть добро. Потому, что Он хочет, – истина есть истина. По воле Бога человек поддался соблазну и утерял свободу. По его же воле – пред которой распалась в прах пытавшаяся противиться каменная, как и все законы, Неизменность – свобода человеку вернется, свобода человеку вернулась: в этом содержание библейского откровения. Но путь к откровению заграждают окаменевшие в своем безразличии истины нашего разума и законы нашей морали. Нам страшна бездушная или равнодушная власть Ничто, но у нас нет сил причаститься возвещенной в Писании свободе. Мы боимся ее еще больше, чем Ничто».
Вот как: мы боимся, значит, свободы и не в силах ей причаститься. Все-таки она есть, она человеку «вернется» и даже уже «вернулась». Но может быть, мы правы, что боимся такой свободы? Потому что какая же это свобода, если все сделал Бог, если Бог сам сорвал яблоко, сам согрешил, сам и от Христа отрекся, даже, выходит, «прелюбодействовал» под маской царя Давида, и человек свою свободу утратил по его, опять-таки, божественной воле? Так у человека отнимается все, отнимается последнее, даже возможность греха, преступления, непослушания. Чем это лучше «истин разума», «законов морали» и «дважды два четыре»? Чем это вообще отличается от «дважды два четыре»? Какая разница между божественным произволом и дьявольской необходимостью? И в том, и в другом случае человек раздавлен, уничтожен, унижен. И разве правда, что все наши несчастия от «знания», «познания» и «разума»? А ведь это главный пункт, сердцевина всей шестовской мысли. В этом главном пункте с ним сходился один Фондан. Самому Шестову, впрочем, казалось, что его «не понимают». Есть места в его переписке, в его высказываниях, сохраненных тем же Фонданом, фатально напоминающие пушкинскую Татьяну. Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает… Получалось так, что поняли его только двое: все тот же безоглядно верный Фондан – и Гуссерль, которого Шестов считал своим антиподом. Гуссерль тоже считал Шестова своим антиподом – что не только не мешало их дружбе, но было предпосылкой этой дружбы, как если бы существовала между ними какая-то таинственная братская связь, только между антиподами и возможная. Этой дружбой оба они дорожили; при (не очень частых) встречах (в Париже, во Фрейбурге, в Амстердаме) дни и ночи проводили в беседах (неразлучны, как двое влюбленных, говаривала жена Гуссерля).