– Ну и ночка.
Запах сигарет Пэриша по-прежнему чувствуется. Пока он рассказывал, я будто держал сосуд, в который бедняга выжимал до капли всю душу, и под конец он едва мог дышать, настолько обессилел. То, как он говорил о своем брате, даже нежность, с какой он произносил «Эйб», словно имя сорвется у него с языка и пропадет навсегда, если он не поостережется, напоминает мне чувства, которые у меня с недавних пор вызывает Пенни.
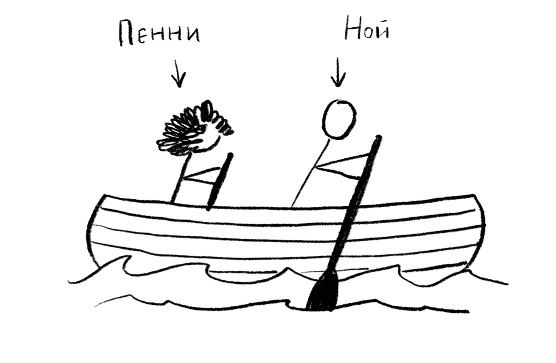
Марк Уолберг протяжно зевает из своего гнезда на заднем сиденье.
– Очень сожалею, что мы потревожили твой сладкий сон. – Я оборачиваюсь, чтобы взглянуть на пса; он смотрит в ответ, наклонив голову, будто понимает каждое слово. – Что с тобой приключилось, Флафф?
Усевшись на внезапно помолодевшие задние лапы, он глядит на меня с выражением ¯\_(„/)_/¯.
Когда я вылезаю из машины, Марк Уолберг трусит за мной через лужайку к входной двери и сразу ныряет в комнату Пенни. Я пробираюсь к себе, замирая на каждом шагу и с особой осторожностью минуя гостевую комнату. Уже третий час ночи, и если дядя Орвилл действительно прибыл за полночь, то наверняка уже спит, но тем обиднее попасться на финальной стадии моей вылазки.
Оказавшись наконец в безопасности собственной комнаты, я понимаю, насколько устал. Я снимаю куртку, стягиваю ботинки и «синего Боуи», после чего заползаю в теплую постель.
Очень теплую. Прямо очень-очень теплую.
– Привет, боец.
Я ору во всю глотку, дядя Орвилл гогочет, Марк Уолберг галопом мчится ко мне в комнату, гавкая точь-в-точь как ротвейлер, родители оказываются здесь же, с выпученными глазами и взъерошенными волосами, Орвилл вылезает из моей постели в одних трусах с леопардовым узором, отец шепчет: «Боже, Орвилл», а дядя потягивается и зевает, предлагая: «Ну что, кофейку?»
Не одеваясь, дядя Орвилл спускается вниз по лестнице, предположительно с целью сварить кофе, а я остаюсь разбираться с родителями. Хоть я и ненавижу их обманывать, не расскажешь же им правду, что я взял их двенадцатилетнюю дочь и нашу собаку в чикагский бар, где оставил обоих в машине, а сам с фальшивым удостоверением личности отправился искать местного музыканта, намереваясь расспросить его о фотографии, которую он обронил у нас в классе после «Мегагала», и еще, что я, кажется, влюбился в девушку, которая залезла на крышу моей машины.
Поэтому я говорю, что не мог заснуть. Говорю, что пошел в подвал смотреть кино, а дядя Орвилл, наверное, приехал, пока я сидел там. И спрашиваю, почему дядя вообще оказался в моей комнате, если отец именно ради него освободил гостевую.
– Да, я освободил гостевую, – подтверждает папа и добавляет, что мама забыла предупредить дядю Орвилла об изменении в планах, на что мама уверяет, будто папа сам собирался предупредить его.
Мы чешем в затылках, фальшиво извиняемся друг перед другом и спускаемся вниз, чтобы урегулировать инцидент с самим дядей Орвиллом (который хлещет кофе, но то ли кофеин на него не действует, то ли у него и так перманентный бодряк, трудно сказать). «Досадное недоразумение, – говорим мы, – сами виноваты» – и так далее. Мама идет спать, папа провожает дядю Орвилла в гостевую комнату.
Наконец я остаюсь один, смотрю на свою постель и не могу выбросить из головы образ дяди Орвилла в леопардовых трусах. Я снимаю простыни, бросаю в корзину для белья, плюхаюсь на голый матрас и в темной комнате смотрю в потолок: я думаю о пещерах и о собаках, об Эйбрахамах и Ноях, о птицах, об ангелах в песнях и демонах в делах, о теневом и солнечном методах, обо всех дверях, которые я открывал для других, наверняка зная, что с другой стороны пропасть. И я думаю о каноэ.
Пенни наверняка слышала весь этот тарарам, но ни разу не выглянула из комнаты.
60. одеяла и оладьи

Я дрейфую в воздухе.
Смотрю сверху на самого себя, лежащего на спине на кровати Ротора, Эйбрахам рядом со мной, лает, полная тишина, промокший парень в углу не оборачивается, воздух закручивается спиралью, вихрь ослепительных цветов, буквы проступают сквозь стены, плавают в полном беспорядке, пока некая невидимая рука не упорядочивает их, двигая по комнате, и эти два слова так близко, что я чувствую их отсвет у себя на лице: «странные влечения». И вот я снова в собственном теле, веки вздрагивают, и я делаю вдох, впервые за много лет.

Проснуться на голом матрасе уже мало радости; проснуться на голом матрасе в холодном поту после кошмара, который снится еженощно несколько месяцев подряд, вообще хуже некуда.
Сегодня среда, начало каникул, и по всем раскладам я должен с наслаждением предвкушать следующие насколько дней. Увы, дядин визит в сочетании с тикающей бомбой срока, когда нужно решить насчет института, напрочь лишают меня энтузиазма.
Собираясь вставать, я провожу ладонью по матрасу, и почему-то возникает дурацкое ощущение, которое бывает, когда, например, отлежишь левую руку до полного онемения, а потом трогаешь ее правой, и хотя правая рука чувствует касание, левая не чувствует вообще ничего.
Как будто держишь чужую руку.
Я прихожу в себя, принимаю душ, одеваюсь и спускаюсь вниз.
– Здорово, боец.
Дядя Орвилл – на нем халат и больше почти ничего – переворачивает оладьи на сковородке.
– Ознакомился с запасами круп у твоего отца в кладовке и решил, что пора взять дело в свои руки. Вот, пеку мои знаменитые оладьи. Будешь?
– Спасибо, – говорю я, подцепляя яблоко из вазочки на прилавке, – но мне надо быстро перекусить и бежать.
– Школы же нет. – Дядя Орвилл выключает плиту, щедро поливает кленовым сиропом стопку оладий и начинает их уминать.
– Я записался на прием к мануальному терапевту.
– А… ну да, – говорит он, жуя. – Травма спины.
По пути к доктору Кирби я проигрываю в голове разговор с дядей. Если он хотел заключить в кавычки «травму спины», то у него получилось: именно так и прозвучало.
61. любопытный случай с Леном Ковальски

Мысль о том, чтобы после визита к доктору вернуться в наш домашний цирк с оладьями и полуголым дядей Орвиллом, меня совсем не вдохновляет. К счастью, я пока туда и не собираюсь.

