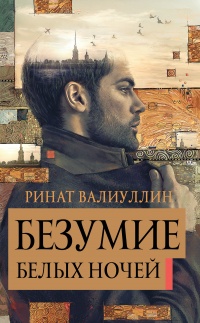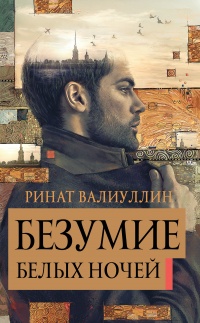
Белая ночь, как чистый лист — никогда не поздно начать с нуля.
* * *
Питер хорош летними ночами. Воздух романтичен и свеж. Дышится легко и светло. Белая ночь, как белый лист, когда ты уже готов перевернуть этот день, а он все не кончается, будто намекая, что ты еще не все сделал, что мог, что сегодня ты просто притворялся, шел по накатанной, прикрываясь обстоятельствами, переложив все великое на завтра. В белые ночи есть время подумать, исправить ошибки, позвонить кому-то близкому, сказать что-то важное или, напротив, никому не звонить, остаться один на один с самим собой. Общения с самим собой — вот чего зачастую не хватает человеку для нормального общения с миром.
Я сидел на набережной, глядя в Неву, отправляя по воде одну за другой свои мысли, они уплывали по течению, некоторые умели плавать и держались на воде, тяжелые — тонули. Дворцовый мост начал медленно подниматься, отсекая другой берег. Вот момент истины. Я знал, что у этого фильма — счастливый конец, к утру берега снова сойдутся, но в жизни налаживать мосты не так просто, а иногда и вовсе не имеет смысла. Крушишь их один за другим, отступая и оставляя надежды, пока не останешься на острове, в компании гордого одиночества.
— Почему Марс такой красный?
— Ему стыдно за Землю.
* * *
Бабушка била челом по проспекту. Била — всему Невскому, била убедительно. Никто не пытался узнать, до кого она хотела достучаться: до людей или до небес. Люди шли как ни в чем не бывало, она стояла коленопреклоненная тут каждый день рядом с емкостью для денег, вырезанной из пластиковой бутылки, дно которой было забрызгано мелочью.
«Не верю!» — прошел я рядом, театрально бросив монету на дно пластмассы. Я всегда бросал страждущим и просящим по одному-единственному принципу — если удавалось обнаружить монету в правом кармане. Если железа не было под рукой, я оставлял щедрость и жалость при себе. Город был начищен до блеска солнцем. Дорога прошла сквозь парк. Деревья тянулись вдоль дорожек, деревья тянулись вверх. Эти не пытались дотянуться до небес, они их поддерживали. Графикой их ветвей заштриховано утро. У деревьев свой взгляд на небо, для них это клетчатка, для меня — паутина, которая к лету обрастет зеленым мхом и начнет шелестеть, бросая бескорыстно тень на скамейки, населенные людьми. Свет, избегающий всяких отношений, бросает тень, как бы та ни старалась его удержать. Пока же весна кружила где-то высоко в небе и дразнила тех, кто спешил по делам. Я не спешил, я опаздывал. Поэтому не хотел смотреть на часы. Если опаздываешь на свидание, нет никакой разницы на сколько. Здесь важен сам факт.
Я не спешила, я уже отработала две пары в университете. Итальянский язык. Он все еще звучал внутри нее — молодой преподавалки среднего роста с 85–65–85, замужем, без вредных привычек, филологически окрыленно — голосом в моей голове, он там жил. Шила вспомнила, как в раннем детстве, изучая английский, частенько смотрела на свой язык в зеркало: «Стал ли он английским? Нет, не было в нем ничего такого английского». А теперь в ее голове их сколько? Иностранцы. Уживались они с трудом, постоянно толкаясь, вытесняя друг друга, пытаясь занять как можно больше пространства. Однако млели, когда на горизонте возникал мужчина.
До встречи с Артуром еще оставалось время, и я была не против проветривания после своей несложной работы. Не то чтобы я не любила свою работу, скорее она меня. Она встречала меня уже без прежней радости, я не могла находиться у нее слишком долго. Как рано или поздно любовника и любовницу, нас обоих это начинало утомлять. Однако менять ее было бы полным безумием. Главное, на что? На что я могла бы променять своих совершеннолетних лоботрясов. Годы — это единственное, в чем они пока были совершенны. Я смотрела то на студентов, то на часы: и те и другие стояли на месте и смотрели на меня, в какой-то момент мне показалось, что я уже начала смотреть на время их глазами. Я представила себя стрелочницей, которая передвигает стрелки на переезде, где наши жизни сошлись и скоро должны были разойтись безболезненно. Итальянский был из тех необязательных языков, без которых можно спокойно жить даже в Италии, а уж в России подавно. Я проверила задание и снова посмотрела на часы, на этот скелет времени, по которому можно изучать анатомию пространства. Разбирать по косточкам, по черточкам, по цифрам. Если даже стрелки и двигались, то очень медленно, как на проведенной только что паре, когда прошел час с эскортом из шестидесяти минут. Потом медленно очень еще пятнадцать минут. Оставалось еще пятнадцать, которые я должна была чем-то занять. Ленивые, сонные, длинные. Последняя четверть часа тянулась дольше всех, тянула на последнюю четверть в школе. Но вот оценки выставлены, и все, летние каникулы — до завтра. Наконец время было обглодано. Я выбросила огрызок в урну вместе с листочками диктанта. Отпустила студентов и двинулась к буфету пропустить чашку кофе или чая. Взяла кофе, вышла на набережную, вдохнуть свежий воздух Невы. «Лучшие часы — это солнечные», — глянула я вверх и зажмурилась. Они без стрелок, они солнечны, они не тикают по ночам, будильник их беззвучный, они висят на стене неба и никогда не опаздывают.
* * *
Я слышу, как жена бродит по кухне, ее шаги бредут от стола к раковине, едят линолеум, я из зала возвращаюсь в спальню, она все еще гремит посудой. Не включая свет, я забираюсь в постель. Вытягиваю руки, укрываясь одеялом. Одеяло не поддается. «Боже! Там уже кто-то есть». Слышу, как жена уже выключила воду на кухне:
— Ты чего не спишь?
— Свет отключали.
— Да? Я даже не заметила. Зачем тебе свет ночью? — пойдет она в предрассветное наступление. — Когда ты уже дашь мне спокойно спать по ночам?
— Никогда.
«Сон. Куда он ушел? — я боялся остановить его, чтобы спросить. — Ты куда, ты же мой, ты был моим только что?» — «Все, хозяин, больше не могу, больше не могу здесь торчать. Сколько времени потрачено впустую? Задание так и не выполнено». — «Какое задание?» — «Откуда мне знать, разве мать не сказала вам, когда рожала?» — «Мать?»
Я вспомнил мать, женщину добрую, мягкую и справедливую, на ней сейчас было летнее ситцевое платье, она улыбалась, впрочем, как и всегда. Несмотря на то что лицо ее оккупировала безграничная грусть, позитив — вот чем она все время пыталась зарядить мою душу, да и не только мою. Очень захотелось ей позвонить и спросить: «Для чего я родился?» Я посмотрел на руку. Фосфорные насечки на стрелках в кромешной тьме, словно путеводные звезды в ночи времени, они указывали мне, что поздно. Слишком поздно, чтобы звонить. Был бы жив отец, можно было бы и позвонить. Мать будить не хотелось, пусть даже она и не спала сейчас, пусть даже тоже думала обо мне. Не хотелось будить ее от этих мыслей. Когда она думала обо мне, мне становилось как-то спокойнее. Любому человеку становится спокойнее, когда о нем думают тепло. А все его беспокойство от чьих-то ужасных мыслей. Просто он об этом не подозревает, ссылаясь на погоду или на здоровье. На самом деле все гораздо проще, все решают мысли, и не всегда только личные. Пообщавшись с матерью, я почувствовал, что жить стало легче, но сон так и не вернулся. Я оторвался от теплоты женского тела.