
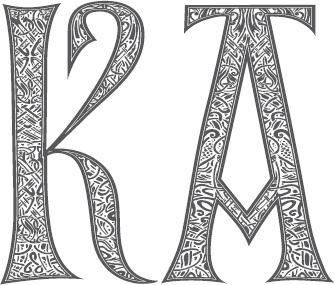
Пролог

У конца мира выросла гора. Не высокая, но длинная и широкая – и она велика, потому что возвышается посреди равнины, где никаких других гор нет. Вокруг раскинулись рыхлые поля и прямые дороги – даже камней почти не встретишь, да и гора не из камня.
Она продолжает расти и будет расти еще долго, прежде чем начнет проседать. Перед рассветом желтая «Гусеница» с отвалом на носу ползет по ее склону. Тот дрожит под ее весом, поскольку плоть горы еще мягкая и рассыпчатая. В первых утренних лучах череда толстых самосвалов подъезжает к горе по проложенным для них извилистым тропам, и в указанных местах они опорожняются, вываливают дымящиеся груды. «Гусеница» ровняет эти кучи, а затем начинает закапывать.
Кое-где они горят.
По обе стороны горы видны горки поменьше, старые и забытые, – пологие, поросшие травой, будто толстяк объелся, прилег переварить угощение и уснул на долгие годы. Только вершины самых свежих еще открыты глазу: там лежит непроглоченное.
Вдоль дорог, что бегут прочь от горы к большому городу, сгрудились домики и лачуги. На рассвете из них выходят Люди и взбираются по меньшим горам к великой, чье нутро еще открыто, словно рана. По большей части, это женщины, дети и старики; они несут с собой мешки, ведра и другие емкости, куда сложат то, что найдут в новых грудах, и то, что другие не отыскали в старых и просевших. Дым застит утреннее солнце.
Люди еще карабкаются по тропам, когда первые Воро́ны вылетают со своих зимних ночевок в густых ветвях деревьев, что растут вдоль берега и на островах посреди городской реки. Длинной цепью они пролетают над Людьми – сотни, затем тысячи. Думаю, если бы Люди хотели описать Ворон, то сказали бы, что те похожи на черный шарф, раскинувшийся по небу от горизонта до зенита. Но сами Вороны себя так не воспринимают: ни как вуаль, ни как плащ, ни как черную медвежью шкуру; они себя видят не целым, но множеством: каждая отдельно, одна-единственная среди прочих, на положенной дистанции, чтобы не коснуться другой, и каждая видит, куда летят остальные.
Они видят, как внизу медленно идут Люди, видят самосвалы с выпученными фарами. Вороны знают, где они.
А Люди о них, скорее всего, и не думают. В иные дни и в иных землях они бы начали креститься, оказавшись под грохочущей крыльями тучей; прошептали бы молитву, заговор или стих из Евангелия; приглядывались бы к волнообразному движению стаи, чтобы узнать будущее или погоду. Но те времена давно миновали. Мусорщики не обращают на птиц внимания, презирают их: «черные попрошайки», «крылатые крысы» – так они говорят. Дети бросают в них все, что подвернется под руку, прогоняют с груд, пока старшие не приставят их снова к делу. Иногда Вороны гонятся за ребенком, решив, будто у него есть что-то им нужное, или просто для развлечения – от прежней опаски не осталось и следа. Обычно у детей нет того, что ищут Вороны. Потребного мусорщикам здесь мало, а вот еды для Ворон полно. Самосвалы вываливают ее тоннами, вперемешку с вещами несъедобными, конечно, но все равно богатство такое, что Воронам нет смысла за него драться.
Я часто наблюдал за ними. По вечерам или на рассвете после бессонной ночи я стоял у окна высотного корпуса городской больницы, на одном из верхних этажей, где мою жену лечили, но не могли вылечить. Я смотрел на гору и видел, как бесчисленные Вороны взлетают с речного острова, а потом возвращаются на голые ветки деревьев, хотя в то время и не понимал, что они делают. Может быть, я видел среди них и Дарра Дубраули.
Возникли новые болезни: у меня одна из таких и еще несколько мелких, порожденных ею. Дебра умерла не от того, что заставило ее поехать в далекую клинику, но от болезни, которая бушевала в этой местности, когда она ложилась в больницу; умерла, а я сидел рядом, с ног до головы затянутый в специальный костюм с маской и перчатками, так что даже в самом конце не мог прикоснуться к ней. Я и сам был болен, смертельно болен, и не только телом, и я увез ее из города на старое кладбище в округе, где стоит наш старый дом, вот этот дом на севере, мой дом. До которого только и сумел добраться Дарр Дубраули, когда заболел сам и отправился в путь прочь от длинной горы у конца Имра.
Сейчас, весной, свет здесь до странности ясный; я и не упомню такого прежде в этой части мира: будто сухой горный воздух перебрался сюда или проходит через наши края. Небо утром темно-синее, почти нереальное и, вопреки неимоверной красоте, – жутковатое, неестественное, подозрительное. Полагаю, это связано с нынешним разрушением земли – точнее, с ее необратимыми изменениями, – хотя доказать, конечно, не могу.
Впрочем, других доказательств полно. На деревьях уже зеленая листва, буйно и разом цветут растения, которые прежде вежливо соблюдали очередность. И столько птиц уже не увидишь и не услышишь. Рассветный гомон не смолк, но стал глуше. С другой стороны, здесь появились птицы, которых раньше не было: уверен, что в детстве не видел тут ни Пересмешника, ни Иволги.
Зато много Ворон, каркают, кричат и собираются вместе утром и вечером.
Я знаю, что постоянство невозможно, что изменение и есть весь закон; но когда понимаешь, что не только человеческий мир, но земля, погода, сама жизнь стали другими к концу единственной человеческой жизни… чувствуешь, будто весь мир умирает вместе с тобой. Или нет? Как можно называть все вокруг разрушением, если не верить, что когда-то все было как должно и ты сам был жив и это видел? И откуда мне знать, что так оно и есть?
Что ж. Первая мысль (может, даже и не мысль толком), когда я увидел больную Ворону у себя во дворе примерно год, нет, уже года два назад, была о том, что нужно пришибить ее лопатой – ради ее же блага и чтобы зараза не добралась до меня и остальных.
Я осторожно подобрался к ней – клювы у них острые – и услышал с разных сторон крики других Ворон, так близко, что, казалось, должен был их увидеть, но не видел. Больная птица не пыталась улететь, даже не смотрела на меня. Точнее, так я тогда подумал. Мне потребовалось много времени, чтобы понять: Вороны, когда ухаживают друг за другом или идут вместе по полю, никогда не поворачивают голову, но вовсе не потому, что не знают о соседе или не замечают его. Нет. Глаза у Ворон расставлены очень широко – настолько, что вблизи вещи легче рассматривать одним глазом. Когда Вороны располагаются бок о бок, они по-своему сидят лицом к лицу.
Как бы то ни было, что-то заставило меня остановиться и присмотреться. Может быть, я почувствовал, что это меня разглядывают. Никогда раньше я не видел так близко живую Ворону. Я присел на корточки; вороний грай стал громче, Пес залаял, оскалился, натянул веревку, которой был привязан к дому, – а потом вдруг все замерло и затихло, словно здесь вовсе нет Ворон. Я забыл, что боюсь заразы, и наклонился, чтобы заглянуть в глаза птице – мутные, как мне тогда показалось, потому что я еще не знал о птичьих мигательных перепонках, или внутренних веках. У нее на щеке, если это подходящее слово, красовалась полоска белых перьев, как седая прядь в темных волосах. С клюва слетело странное ворчание, непохожее на все вороньи крики, какие мне доводилось слышать. И я подумал, что спустя год жизни без смысла (да нет, больше года) земля по какой-то нежданной милости дала мне знак.

