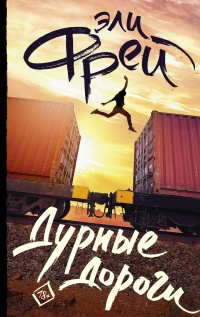
Глава 1
2002 год
«Гольфы, юбка, каждый день по тюремному распорядку… Все достало! А особенно ― быть девчонкой. Нужно срочно устроить бунт!»
Так подумала я, однажды проснувшись, и в тот же день нарисовала огромный ярко-красный знак Анархии. Он занял все парадное окно моего закрытого женского пансиона.
Когда меня вызвали «на ковер», я попыталась абстрагироваться от всего мира. Завороженно наблюдала, как между шевелящихся напомаженных губ директрисы растягивалась и сжималась мерзкая тоненькая слюнка. Директриса говорила ― слишком много слов! Можно было и покороче объяснить суть, которая сводилась к тому, что я ― инфантильная неудачница, обреченная на бессмысленную и убогую жизнь, гнилой огрызок посреди цветочной клумбы. Я не делала ничего, только все портила и отравляла. До конца своих дней я буду всем обузой. Позор своей школы и позор своих родителей.
Я молча вытирала с себя слюни, которыми меня щедро окатывала директриса. Меня не сильно задевали ее оскорбления, я привыкла. Просто старалась не пропускать словесное дерьмо внутрь себя, и это мне легко удавалось ― все приходит с опытом.
– Может, закончите уже, а? ― Мне наконец надоел этот пустопорожний блев. ― У вас что, других дел нет? Мне ваша болтовня по барабану. А у вас, я знаю, более приятное дело есть. С Петром Григорычем.
В пансионе я была кем-то вроде человека-паука, который умел лазить по стенам и видел каждый пятничный трах директрисы с физруком.
– Так давайте мирно разойдемся и продолжим заниматься своими приятными делами?
Я специально говорила так, как, по мнению большинства, должны говорить все трудные подростки, и для пущего эффекта катала во рту жвачку. Знаете, а я ведь всегда подстраивалась под эти стереотипы, ― будто однажды кучка взрослых села за круглый стол и после долгого обсуждения составила их детальный список. И вот список под заголовком «Какими должны быть трудные подростки?» попал мне в руки, и я стала строить свою жизнь по нему.
Директриса, набравшая в грудь побольше воздуха, чтобы изрыгнуть очередной поток блева, от моих слов сдулась и теперь напоминала спущенный дирижабль.
– Савельева, что за чушь ты несешь? И как ты смеешь говорить с директором в таком тоне?!
Но по багровому лицу и бегающему взгляду было ясно, что она в шоке от того, что в тайну пятничных трахов посвящен третий лишний. Директриса всосала воздух, как пылесос, и опять разразилась гневной тирадой: стала кричать что-то о родителях и исключении. По ее лбу текли струйки пота.
Исключение? Боже, я мечтала об этом! Я угодила в эту «тюрьму» по прихоти дедушки-военного, который пристроил меня сюда по блату. Когда дедушка умер, я подумала, что наконец-то кончится ад, ведь папа не сможет оплачивать мое обучение. Но не тут-то было, по договору я могла учиться до конца на бесплатной основе. Пришлось приложить усилия, открыть в себе художника, и ― вуаля! ― меня исключают!
Час моей казни настал вечером, когда приехали родители. С кирпичной мордой папа молча пережевывал гнев. Мама стояла за его спиной, опустив грустные глаза в пол.
–…Разрисовала всю блузку сатанинскими знаками… ― говорила директриса.
(Это всего лишь знак анархии, а не пентаграмма.)
– …Называет учителей чернью…
(На правду не обижаются.)
– …Включает на всю громкость свою вульгарную и пошлую музыку, не дает спать порядочным девочкам…
(Это «Красная плесень», у вас просто туговато с юмором, Галина Алексеевна, а ваши «порядочные девочки», между прочим, частенько по ночам устраивают мне темную: стаскивают с кровати, накидывают сверху одеяло и нещадно бьют ногами.)
– …Портит имущество пансиона…
(Да-да, это о разрисованном окне. У вас отсутствует художественный вкус, Галина Алексеевна. И вы всегда говорили, что надо поощрять детское творчество.)
– …Ты же девочка, ты не должна…
Пока она перечисляла, чего не должны делать девочки, я задумалась о том, что за всю жизнь «ты-же-девочек» услышала больше, чем израсходовала рулонов туалетной бумаги, и стала вести подсчет: а сколько действительно рулонов бумаги у меня ушло за все мои пятнадцать лет? Папа, прежде походивший на немую гранитную плиту, вдруг влепил мне увесистую затрещину.
Черт, он меня сбил… Триста или четыреста рулонов? У меня чуть башка не треснула.
Я снова занялась подсчетом.
Конечно, он задел меня. Не просто задел, а убил. В сотый раз.
Если в день я трачу примерно полтора метра бумаги в зависимости от соотношения «больших» и «маленьких» дел…
Волна обиды нарастала грохочущей волной.
Длина рулона около двадцати метров…
Даже если за всю жизнь ты получил тысячу отцовских затрещин, ты не оброс толстой шкурой.
Двадцать семь рулонов за год, а за пятнадцать…
К родительским побоям невозможно привыкнуть даже через десять тысяч ударов. Каждый раз ― как впервые.
…Получается чуть больше чем четыреста рулонов.
Директриса, минуту назад говорившая что-то вроде: «У нас пансион для прилежных воспитанниц, сожалею, но мы не можем больше содержать вашу дочь здесь, она подает дурной пример», заткнулась и посмотрела на папу круглыми от ужаса глазами. Да, знаю, семейка у нас та еще.
В комнате, собирая вещи, я заодно прихватила чей-то телефон с соседней тумбочки. Выйдя на улицу, покатила чемодан по бугристой плитке, и грохот колесиков перебивал громоподобный голос отца за спиной:
– Как ты могла? Позоришь нас! Мы все для тебя делаем, за учебу твою платим, чтобы человека из тебя сделать, а ты…
– Постой-ка, папа. Ты не платишь ни рубля, это раз. Вы отправили меня сюда не для того, чтобы сделать из меня человека, а для того чтобы избавиться от меня, ― это два! Вы же мечтали всех детей выселить куда-нибудь, чтобы уединяться и трахаться в свое удовольствие! ― бросила я через плечо, а в качестве кульминации выдула огромный жвачный пузырь, который лопнул с громким чпоком.
Я быстрее пошла вперед, к воротам. По дороге я считала плитки под ногами ― отдельно желтые, отдельно серые.
– Как ты с нами разговариваешь? ― рявкнул отец. ― Воспитали неблагодарную сволочь жопорылую! Да по тебе военная школа плачет!
Я сбилась. Подсчет опять не получился. Плиток каждого цвета оказалось больше пятидесяти, но это все, на что был способен мой мозг.
Сердито бросив в багажник машины чемодан, я плюхнулась на заднее сиденье и, включив плеер, на три часа ушла в мир музыки.
Я радовалась, что навсегда уехала из этого ада.

