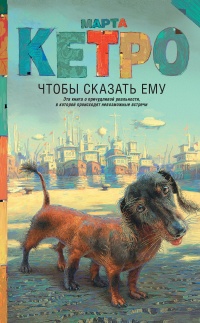
* * *
вот же он этот проклятый заяц
как же я его не заметил
пусть не говорят что он больше не нужен
там куда мы уходим
куда мы уходим
Цветков А. П.
У одной женщины не было детей.
Редко случается, чтобы у женщины совсем не было детей, ни своих, ни названых. Такие встречаются приблизительно в тысячу раз реже, чем те, кто просто не может родить. Потому что если у которой нет ребёночка, а страх как хочется, она всегда найдёт способ. Пойдёт к колдунье, а та подарит ячменное зерно, да такое, что вместо колоска взойдёт цветок, а внутри бутона окажется девочка. Или украдёт из чужой колыбели, которую бездумная мать оставит в тенёчке у крыльца: схватит малыша, укроет платком и побежит за синие леса, за высокие горы, в безопасное убежище, там посадит на сухой мох и даст ему гладкую еловую шишку, чтобы играл. Купит у нищенки здорового темноглазого мальчика, развяжет цветастое отрепье и сожжёт, а ребёнка искупает в желтоватой ромашковой воде или вот с чередой тоже хорошо. А то назначит младенцем полено или котёнка, станет баюкать, отпаивать молоком. Усыновит мужчину и воспитает.
Да мало ли способов, если хочется.
Ещё реже бывает, чтобы женщина совсем не хотела иметь ребёнка, ни своего, ни чужого, ни щенка, ни симулякр, вроде тамагочи, который бы изредка пищал: «Покорми меня», «Поиграй со мной». Такая, может, одна на миллион.
А ещё говорят, будто иногда случается – раз в сто лет? – что и родит, но забудет. Даже и вырастит, но потом с её памятью произойдёт какая-то неприятность – например, постирает едким мылом, чтобы вывести пятно от вишнёвого сока или крови, а в результате пятно как было, так и осталось, а ребёнок стёрся. На фотографиях и в документах есть, но женщина перестаёт чувствовать себя матерью. От этого она сначала сделается на двадцать лет моложе, обретёт лёгкость, талию и шелковые платья, но постепенно тело её будет становиться всё легче и легче, шелка посереют, а потом она превратится в птичку. Как только это произойдёт, женщина снова обо всём вспомнит. Но теперь у неё маленькая птичья головка на одну мысль, коротенькие ножки и совсем нет рук, а вместо голоса чирик-чирик. Есть, правда, крылья, и потому она не побежит, а полетит – искать своего ребёнка. Зачем, ведь он уже совсем взрослый? Попробуйте расспросить, но ничего внятного птичка не ответит, даже если научится на манер скворца повторять некоторые слова почти по-человечески. Когда вы попытаетесь её удержать, она склонит головку и бессмысленно прощебечет: «Чтобы сказать, чтобы сказать ему…» – и другого вы не добьётесь, поэтому лучше отпустите добром, пока не убилась об оконное стекло.
1
Месячные прекратились лет на десять раньше, чем это обычно бывает, но Дора не огорчилась, наоборот, почувствовала себя свободной как никогда. Теперь не нужно высчитывать, когда не сможешь пойти в бассейн, переносить занятия в спортзале и отменять свидания. Это справедливо, ведь жизни осталось меньше, чем было, и пять дополнительных дней в месяц хоть какая-то компенсация. Можно посчитать: месячные у неё с десяти, и значит, за следующие тридцать пять лет она потеряла две тысячи сто дней, приблизительно пять с половиной лет своей единственной жизни провела в крови и боли, без секса, с отваливающейся спиной и вечным страхом наследить. А теперь добавятся шестьдесят полновесных суток в год. Конечно, они будут не столь насыщенными, как в юности, но дарёному коню не смотрят ни в зубы, ни под хвост, хотя копыта, конечно, надо бы проверить: хорошо ли подкован и всё такое.
Дора любила цифры и заботилась о точности вычислений, и потому всё время возвращалась к столбику, которым перемножала 5, 12 и 35, а потом делила на 365. Все ли дни можно считать потерянными? Ведь иной раз она не могла утерпеть и всё-таки занималась сексом, а потом озабоченно разглядывала красные пальцы, потёки на ногах и отправляла сомлевшего мужчину мыться первым – потому что кровь засыхала, стягивала нежную кожу головки, и далеко ли до раздражения. С другой стороны, и так округлила в меньшую сторону, на самом деле выходило не пять с половиной, а 5,75, но те три месяца можно списать на самое начало, когда только устанавливался цикл.
Она вспомнила, как валялась на спине, задрав ноги на стену, и прислушивалась к тянущей боли в животе, а заодно и к шепоту в коридоре. Отец потом некоторое время огибал её комнату по дуге, насколько это было возможно в их доме. Ничего личного, он просто беспокоился и смущался, потому что мать, как всегда, проболталась. Она всё ему рассказывала, и Дора думала, что это от несдержанности, но потом оказалось, что и отец, который был безупречен, тоже не имеет от мамы тайн. И Дора поняла, что это такой способ существования в паре, когда на всякий случай ничего друг от друга не скрывают, сообщают каждый пустяк, любые новости и чужие секреты, чтобы как-нибудь нечаянно несказанное не скопилось и не создало серьёзное препятствие между ними. Но чем меньше барьеров было между родителями, тем выше вырастала стена перед Дорой, почти незаметная в раннем детстве. В младших классах школы из-за неё ещё торчали бантики, но потом кладка стала опережать, и скоро родители находили свою девочку только по голосу и следам, которые она оставляла со свойственной подросткам неаккуратностью. Раскидывала по дому одежду, глупые бумажки с цветочками и неумелым детским матом – записочки, которыми девочки перебрасываются на уроках. Забывала на видном месте блокнот в сердечках, наполненный густой рифмованной патокой, розовый носок со стоптанной до желтизны пяткой, и диск с хентаем. Эти вещи служили для неё чем-то вроде стигматов возраста: Дора осознавала их неприглядность, но ничего не могла с собой поделать. Внутри неё жила взрослая женщина, но до поры она находилась в плену у неумной девчонки, которая вынуждала её совершать потные подростковые выходки, диктовала лексикон и манеры. И вещи роняла именно та, пленница, пытаясь хоть как-то подать знак, но вместо белых камешков у неё были только носочки и бумажки. А родители никого не хотели искать, покорно подбирали с пола и кресел девичий мусор и складывали в шкафы.
Насколько Дора помнила, лучше всех её находил дед. Когда ей было пять, она приходила в его кабинет, где на книжных полках стояли совсем неинтересные книги, а на столе зелёная малахитовая чернильница и механический календарь. Невежливо соваться в чужую комнату без спроса, и всё-таки она пробиралась украдкой, залезала в его жёлтый кожаный чемодан и опускала над собой крышку. Нет ничего глупее положения человека, который спрятался, а его не ищут. Даже Неуловимый Джо устроился лучше, он хотя бы скрывается от несуществующей погони и что-то с ним происходит по пути, а когда лежишь, скорчившись в душном чемодане, обшитом изнутри коричнево-пёстрым шёлком, буквально за три минуты начинаешь чувствовать себя дурой. Но дед всегда появлялся вовремя, примерно через две с половиной минуты после того, как Дора переставала ёрзать и успокаивала дыхание. Он входил в кабинет и звал:
– Дора! Дора!

