— Жаль… Могли еще чего-нибудь провернуть. А за какие грехи, если не секрет?
— Да чего уж там… Не секрет. В казино с Андрюшей пристроились. Правда, с нами депутат один играл. Вот и замяли дело. Потом немного отдохнули. Магазин теперь у нас антикварный. На Гертрудес он.
— Та же скупка краденого, но с дыханием старины.
— Умник… Твое здоровье, кстати. Но красиво ты нас, красиво…
— Прости, старина. Я не вас, я государство. Все по обоюдной любви.
— Бывай. И заходи в гости. Мы на Гертрудес. Ты просто так заходи.
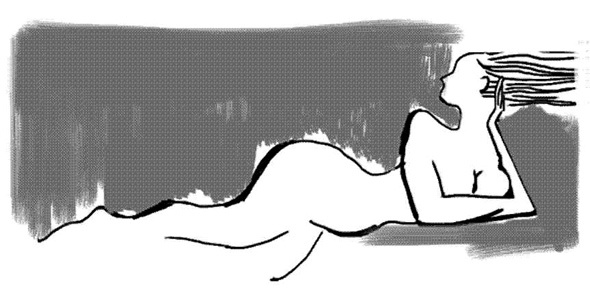
Голова развратной женщины
Меня устраивал только дубль. Зары[1] прокатились по укрытым лаком восточным завиткам и замерли на четыре-четыре. Игорь что есть силы врезал кулаком по ладони.
— Миха, ну не может так везти!
— Да ладно… Три дня подряд у меня выигрывал.
К беседке подбежал запыхавшийся Велиев. Пилотка набекрень, уши словно крылышки Меркурия. Только красные.
— Товарищ сержант! Срочно… Ротный вызывает, срочно!
— А ты говоришь, везет, Игореха.
Громко хлопнув доской, я направился в сторону казармы. Рядышком семенил Велиев:
— Товарищ сержант! Капитан Соловьев просил бегом.
— Ну если только просил, то можно и не бегом. А вот если бы приказал…
Крики Помидора были слышны метров за пятнадцать от крыльца. Монолог был известен: «Молчать, сволочь! Все равно плохо кончишь! Жаль, сейчас не война!» И как он эту войну еще не накаркал? В дверях встретил дежурного по роте, Андрея Полесова.
— Помидор в каптерке шмон устроил. Вроде нашел палево какое-то, — обронил Андрей.
— Лучше бы он мину без щупа нашел разок, — сказал я.
По полу каптерки были разбросаны вещи. Спортивные костюмы, кроссовки, бархат и металлические уголки для дембельских альбомов. У стены, понурив головы, стояли сержанты Маликов и Козырев.
— Разрешите войти, товарищ капитан? — обратился я к ротному.
— А-а-а… Войти-и-и? Входите, входите. Маликов и Козырев, с вами разговор будет продолжен чуть позже.
Я даже не заметил, как они исчезли. Закрыв дверь на ключ, капитан Соловьев подошел к одному из стеллажей. Рывком сдернул с полки «дипломат» черного дерматина.
— Не догадываетесь, что внутри дипломата, товарищ сержант? — Басы пошли на усиление. — Я спрашиваю! Что, по-вашему, находится в «дипломате», принадлежащем рядовому Сабитову?
— Не могу знать, товарищ капитан! Но надеюсь, не анаша, носки или документы особой важности.
— Паяц!!! Паяц и мерзавец!
Я первый раз видел дрожащие руки Соловьева. Хотя нет… Было. После того как он по пьяни бабку-станичницу «Москвичом» протаранил. Открыв чемоданчик, ротный выудил глянцевый прямоугольник. Фотография замерла в считаных сантиметрах от кончика моего носа. Я вспомнил покойного дедушку. Его незабываемые рассказы, прогулки по берегу моря. Вспомнил слезы мамы и стенания бабушки в день его скоропостижного ухода… На миг воскресил в памяти толчок на борт, после которого хрустнули две берцовых кости моей правой ноги. Мне полегчало. Приступ смеха был жестоко подавлен.
— Ого-о-о, — протянул я, сыграв изумление.
— Что, блядь, ого?! Что это, товарищ сержант?
Идиотский вопрос. Будто он слепой. Сам он не видит, что это. На черно-белой фотографии размером со страницу журнала «Вокруг света» застыло лицо красивой брюнетки. Пышные букли, ресницы длиной с побеги молодой травки. И чувственные, пухлые губы… И эти чувственные пухлые губы смыкались на массивном члене. А он был черным. Будь фотография цветной, запечатленное удовольствие выглядело бы несколько эстетичнее.
— Мое терпение не танковая броня. Но я еще раз задам вопрос. Что это, товарищ сержант?
— Голова развратной женщины, товарищ капитан.
— А что за черная мерзость торчит из головы развратной, как вы изволили выразиться, женщины?
— Ну почему же мерзость? Каждый день в руках держим, товарищ капитан. И не по одному разу. А потом… Я не расист. Мы же записываем лекции, в которых говорится о том, что все люди братья вне зависимости от цвета…
Договаривать не имело смысла. В целях своей же безопасности. Лицо Помидора исказилось пуще обычного. И краснота на этот раз выглядела неестественно. По идее, Соловьева должно было разорвать от высокого внутричерепного давления. Взяв на душу очередной грех, я мысленно понадеялся на инсульт. А еще попросил Господа не давать добро на начало военных действий. Исполнилось только второе желание. Репродуктор промолчал.
А голову женщины внезапно разорвало на две части. Детородный орган невидимого африканца постигла та же участь. Когда все, что осталось от фотографии, уместилось в кулаке, Помидор воплем подвел итог беседы:
— Трое суток ареста!
Смех придушить удалось, а вот с протестом я справляюсь редко. Он всегда сильнее моего внутреннего голоса.
— А мне-то за что? Сабитов дрочит, а я за него сутки тянуть должен…
— Ну ничего, ничего… И ты додрочишься. Начнется война, до оружейной комнаты добежать не успеешь.
Поначалу я хотел Сабитова взгреть. Но пожалел. Многие бойцы могли предаться сладостным воспоминаниям, пофантазировать. А он из аула. Кроме ишаков и баранов вряд ли что из живности щупал. Вот и носился бедолага в каптерку за вдохновением. А вдохновение не пощадили…
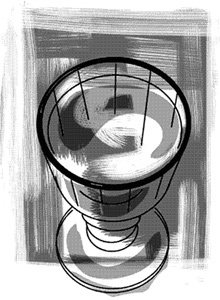
История в стиле fine

Саша ходил по Риге и говорил, что уедет в Штаты. Когда напивался, говорил это даже незнакомым людям. Люди реагировали по-разному. Одни искренне сочувствовали, другие фальшиво радовались. Патриоты как-то раз избили. С последним ударом раздалось, как гонг: «Вали, жидовская морда!» Концептуальность разила привычным антисемитизмом.
Одна девушка попросила взять с собой. Саша сказал, что Штаты — это прежде всего freedom, и туда надо ехать полностью свободным от обязательств. Тем более от обязательств перед женщинами.
Девушка влекла. У нее были добрые глаза и такие же намерения. Она встретила его через пять лет в кафе. Вернее сказать, в том же кафе. Внимательно посмотрела на лицо и на одежду Саши. Узнала с тревогой и детским недоумением. Подсела за столик, смахнула нефальшивую слезу и спросила:
— Здравствуйте. А я думала, вы давно уехали. Вы, наверное, меня не узнаете? Пять лет назад вы говорили, что уедете в Америку, и не хотели брать меня с собой.

