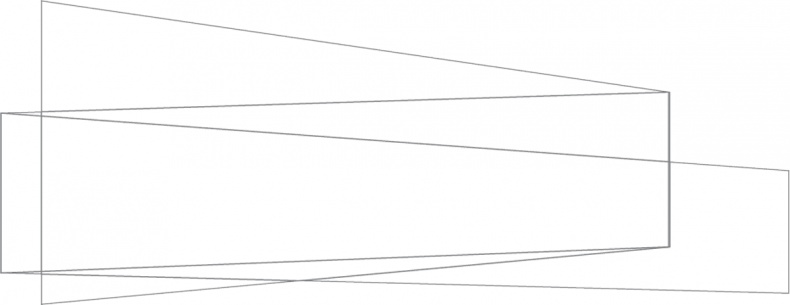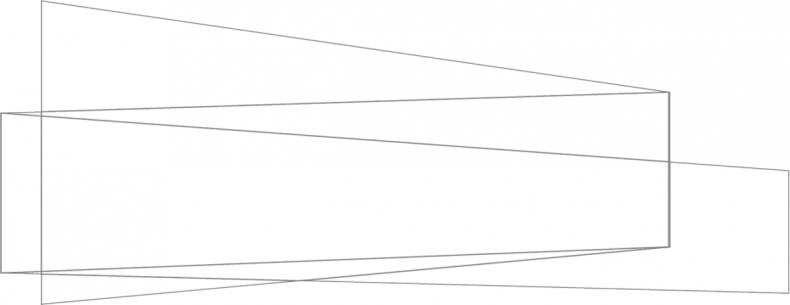* * *
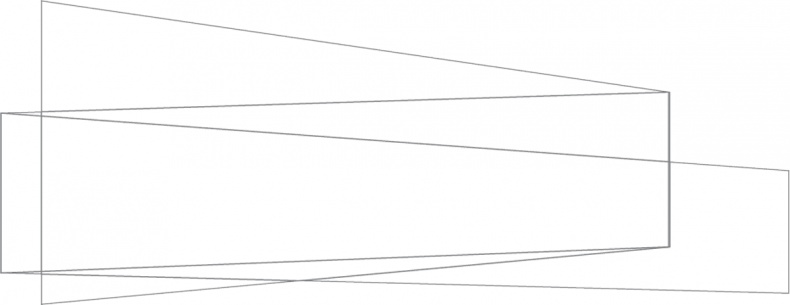
* * *
Через несколько месяцев после выхода моего последнего романа я прекратила писать. В течение почти трех лет я не написала практически ни строчки. Порой устойчивые выражения следует понимать буквально: я не написала ни делового письма, ни благодарственной карточки, ни видовой открытки из отпуска, ни списка покупок. Ничего, что потребовало бы определенного усилия, без которого невозможно написать что-либо. Ни строчки, ни слова. Вид блокнота, записной книжки, каталожной карточки вызывал у меня тошноту.
Мало-помалу само это действие стало случайным, неуверенным, совершаемым не без боязни. Необходимость сжимать в пальцах ручку представляла для меня все большую трудность.
Позже я начала впадать в панику, стоило мне открыть документ Word.
Я пыталась найти удобное положение, оптимальный угол наклона экрана, вытягивала под столом ноги.
А потом часами сидела, вперив неподвижный взгляд в экран.
Через некоторое время у меня начали дрожать руки, стоило мне приблизиться к клавиатуре.
Я без разбору отказывалась от всех поступавших мне предложений: статей, летних новостей, предисловий и других форм участия в коллективном творчестве. От одного только слова «писать» у меня сводило желудок.
Я не могла больше писать.
Писать – только не это.
Теперь я знаю, что в моем окружении, литературной среде и социальных сетях ходили обо мне различные слухи. Знаю, что говорили, будто я никогда больше не буду писать, что я дошла до своего предела. Что костер из соломы или бумаги горит недолго. Любимый человек вообразил, будто от общения с ним я утратила вдохновение или же потеряла питательную жилу и, следовательно, вскоре брошу его.
Когда друзья, знакомые, а иногда даже журналисты отваживались расспрашивать меня о причинах моего молчания, я говорила об усталости, о поездках за границу, гнете популярности и даже о завершении литературного цикла. Я ссылалась на отсутствие времени, рассеянность, беспокойство и выкручивалась с улыбкой, безмятежность которой никого не вводила в заблуждение.
Сегодня я знаю, что все это лишь отговорки. Все это ничего не значит.
Случалось, разумеется, что я при близких упоминала о страхе. Не припомню, чтобы я говорила об ужасе. И все же речь шла именно об ужасе. Сейчас я могу признаться: процесс письма, который давно занимал меня, который изменил все мое существование и был так дорог мне, отныне наводил на меня ужас.
Истина заключается в том, что в момент, когда мне в соответствии с циклом, где чередовались латентный и инкубационный периоды с собственно написанием, циклом почти хронобиологическим, практикуемым мною уже более десяти лет, пришлось вернуться к письму, – так вот, в тот самый момент, когда я уже готовилась начать книгу, используя сделанные для нее заметки и обилие собранных документов, я вдруг повстречала Л.
Теперь я знаю, что Л. – одна-единственная причина моего бессилия. И что два года, когда мы были вместе, чуть было не обрекли меня на вечное молчание.
I
Обольщение
Он чувствовал себя персонажем,
чью историю рассказали не как быль,
но как художественный вымысел.
Стивен Кинг, Мизери
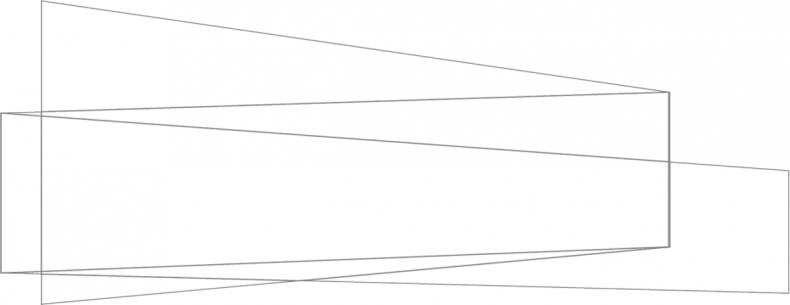
* * *
Я бы хотела рассказать, как, при каких обстоятельствах Л. вошла в мою жизнь. Я бы хотела как можно точнее описать контекст, который позволил Л. проникнуть в мое личное пространство и терпеливо завладеть им. Это не так просто. И вот сейчас, когда я пишу эту фразу: «при каких обстоятельствах Л. вошла в мою жизнь», я осознаю, сколь напыщенно это выражение в связи с раздутым пустяком, каким образом оно подчеркивает еще не существующий драматизм, это желание оповестить о переломе или неожиданном повороте. Да, Л. «вошла в мою жизнь» медленно, уверенно, коварно, до глубины перевернула ее. Л. вошла в мою жизнь, словно вышла на театральные подмостки прямо посреди спектакля, как будто режиссер позаботился о том, чтобы все вокруг поблекло, уступив ей место. Как будто выход Л. был подготовлен таким образом, чтобы указать на ее значительность, чтобы именно в этот момент зритель и другие лица, присутствовавшие на сцене (в данном случае я), смотрели только на нее, чтобы все вокруг нас замерло и ее голос разнесся по всему залу. Короче, чтобы она оказала свое воздействие.
Но я слишком спешу.
Я повстречалась с Л. в конце марта. После каникул Л. уже разгуливала по моей жизни, словно давнишняя подруга по хорошо знакомой местности. После следующих каникул у нас уже были наши private jokes
[1], общий язык, составленный из намеков и двусмысленностей, взгляды, которых было достаточно, чтобы понять друг друга. Наше сообщничество питалось взаимными признаниями, но также и недосказанностью и молчаливыми замечаниями. По прошествии времени и учитывая жестокость, в которую позже превратились наши отношения, я могла бы поддаться искушению сказать, что Л. вошла в мою жизнь со взломом, имея единственной целью захват моей территории, но это было бы неправдой. Л. вошла тихо, с безграничной деликатностью, и я испытала с ней мгновения поразительного согласия.
Вечером накануне нашего знакомства меня ждали на Парижском Книжном салоне на автограф-сессию. Там я встретила своего друга Оливье, приглашенного для прямой трансляции со стенда «Радио Франс».
Я смешалась с толпой, чтобы послушать его. А потом мы с ним и его дочерью Розой поделили на троих бутерброд, усевшись прямо на потертое ковровое покрытие в укромном уголке салона. Я была объявлена на четырнадцать тридцать, времени у нас оставалось немного. Оливье не замедлил сказать мне, что я выгляжу усталой, он всерьез беспокоится, как я справлюсь со всем этим. «Все это» означало одновременно и то, что я написала такую личную, интимную книгу и что эта книга получила такой резонанс – резонанс, на который я вообще не рассчитывала, он знает, и к которому, следовательно, не была готова.
Позже Оливье предложил пойти со мной, и мы направились к стенду моего издателя. Мы миновали очередь, плотную, тесную. Я хотела понять, к какому автору она стоит. Помнится, я подняла глаза в поисках афиши, которая подсказала бы нам его фамилию, и тут Оливье шепнул мне: думаю, это к тебе. Действительно очередь тянулась издалека, а потом заворачивала к стенду, где меня ждали.
В другое время, и даже несколькими месяцами раньше, это наполнило бы меня радостью и, конечно, тщеславием. Я часами смирно поджидала читателей в различных салонах, позади стопки своих книг, но никто не приходил. Я знала эту растерянность, это вызывающее чувство стыда, одиночество.