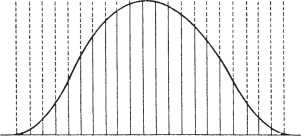Парадокс познания возникает не только на атомарном уровне. Наоборот, он становится только убедительнее, если перейти к большему масштабу — уровню человека или даже планеты. Позвольте доказать это на примере построенной в 1807 году астрономической обсерватории Карла Фридриха Гаусса из Гёттингена. С тех пор ее инструменты непрерывно совершенствовались.
Сегодня мы наблюдаем звездное небо, пользуясь современными инструментами, и нам кажется, что наши расчеты и описания планет и звезд лучше, чем двести или сто лет назад. Однако если сравнить, то внезапно оказывается, что результаты наших наблюдений мало чем отличаются от полученных нашими предшественниками. То тут, то там мы вновь и вновь находим ошибки. Люди надеялись, что с развитием науки и техники ошибки исчезнут сами собой и что человечество сумеет постичь мир во всей его полноте. Но ошибки не исправить, опираясь только на наблюдения, как невозможно точно описать явление, глядя на чужую картину или слушая чужой доклад.
Гаусс понял это благодаря своему удивительному юношескому духу познания, который он сохранил почти до самой своей смерти в возрасте около восьмидесяти лет. Ему было восемнадцать, когда он в 1795 году поступил в Гёттингенский университет, и тогда же Гаусс решил проблему обработки наблюдений, содержащих внутренние ошибки. Сегодня метод Гаусса является основой статистики.
Когда астроном наблюдает за поведением звезды, он принимает во внимание множество причин, которые могут вызвать ошибку. Астроном проводит несколько измерений и выбирает среднее значение, надеясь, что оно окажется наиболее верным. Всё очевидно. Однако Гаусс пошел дальше. Он задался вопросом: что дает нам разброс отклонений положения звезды от средней орбиты? Ответом юного ученого стала кривая, построенная на основе значений разброса, который Гаусс назвал областью неопределенности. Это избавило нас от ложной уверенности в том, что истинное положение звезды окажется где-то посредине. Все, что мы знаем: оно находится в области неопределенности, которую мы вычисляем на основе наблюдений.
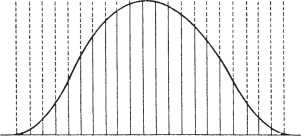
Парадокс познания возникает не только на атомарном уровне. Наоборот, он становится только убедительнее, если перейти к большему масштабу — уровню человека или даже планеты.
Кривая нормального распределения Гаусса.
Гаусс с его утонченными взглядами на познание был особенно неприятен для философов, которые утверждали, что им известен иной, более совершенный путь к истине, нежели наблюдения. Из многих примеров я приведу только один — остановлюсь на столкновении Гаусса и Гегеля. Гаусса я нежно люблю и восхищаюсь им, к Фридриху Гегелю, честно говоря, испытываю неприязнь. В 1800 году Гегель представил диссертацию, в которой доказывал, что хотя с античных времен определение планет изменилось, их число осталось постоянным: был открыт Уран, но Луна из разряда планет была переведена в разряд спутников, а вместо Солнца на должность планеты была назначена Земля. То есть планет как было, так и осталось всего семь. Отличная мысль, но не новая. По словам Гаусса, задолго до защиты Гегеля ее высказал Шекспир. Вспомните блестящий диалог из трагедии «Король Лир», в котором шут говорит королю: «А вот очень просто отгадать, почему в семи звездах всего семь звезд». В ответ король глубокомысленно ухмыляется и отвечает: «Потому что их не восемь?» Шут мгновенно реагирует на горькую иронию короля: «Совершенно верно. Из тебя вышел бы хороший шут». Так что Гегель своей диссертацией не сказал ничего нового. А 1 января 1801 года, когда в ней еще не высохли чернила, была открыта восьмая планета — астероид Церера.
История знает немало подобных парадоксов. Бомбой замедленного действия, заложенной в кривой Гаусса, оказалось то, что мы не стали богами, даже взглянув на мир с высоты птичьего полета. Наши ошибки неразрывно связаны с природой человеческого знания. Ирония состоит в том, что это открытие сделано в Гёттингене.
Старинные университетские города удивительно похожи друг на друга: Гёттинген напоминает и английский Кембридж, и американский Йель. Это провинциальные городки вдали от шумных трасс и мегаполисов, в них никто не стремится переехать, кроме профессуры и студентов. Преподаватели таких университетов уверены, что их город — центр мира. Над входом в пивную, расположенную в подвале, есть надпись на латыни: Extra Gottingam non est vita («За воротами Гёттингена жизни нет»). Эту эпиграмму или эпитафию (кому как нравится) не принимает всерьез никто, кроме очередного магистранта, который мечтает остаться здесь в качестве профессора.
Символом университета считается железная статуя босоногой гусятницы Лизы, стоящая перед пивной. Ее целует каждый выпускник. Университет для студентов — Мекка, в которую каждый из них приходит с чем-то чуть меньшим, чем абсолютная вера. Задача преподавателей воспитать в них духовную смелость оборванца, если хотите, босую непочтительность к учебе, потому что они здесь не для того, чтобы поклоняться известному, а для того, чтобы подвергать сомнению даже непоколебимые истины.
Как в каждом университетском городе, здешний пейзаж с его длинными улочками и переулками располагает к долгим пешим прогулкам, которые совершают после обеда почтенные профессора. Во время этих прогулок активные студенты стремятся договориться с преподавателями о совместных исследованиях. Вполне возможно, что в прошлом Гёттинген был довольно тихим, сонным местом. Маленькие университетские города вернулись в те времена, когда страна еще не объединилась и представляла собой отдельные государства. Например, Гёттинген основал Георг II как столицу Ганновера. Это придает подобным поселениям своеобразный флер бюрократического местного колорита. Даже после отречения кайзера от престола в 1918 году и падения военной мощи Второго рейха жители этих городков оставались большими конформистами, чем население кампусов за пределами Германии.
С внешним миром Гёттинген связывала железная дорога, которая начиналась в Берлине. По пути гости университета успевали обменяться новыми идеями, занимавшими лучшие умы ведущих ученых-физиков всего мира. В Гёттингене существует присловье, что наука рождается в берлинском поезде, потому что в купе и вагоне-ресторане спорят и соглашаются, а значит, рождаются новые и умирают нежизнеспособные идеи.
В годы Первой мировой войны научное сообщество в Гёттингене, впрочем, как и везде, активно обсуждало теорию относительности. Однако в 1921 году, с приходом на кафедру физики Макса Борна, ситуация изменилась: он предложил заняться атомной физикой. Для начинающего преподавателя Макс Борн был несколько староват — почти сорок лет. Его коллеги-физики, как правило, писали свои лучшие работы до тридцати, математики — еще раньше, биологи — чуть позже.
Однако Борн был исключительным человеком, одаренным, как Сократ. Он сразу привлек к себе молодых преподавателей и студентов и сумел создать благоприятную научную среду, в которой каждый из них смог максимально раскрыться и написать свои лучшие работы. В физический институт приезжали ученые из всех стран мира. Из учеников Борна я отмечу двоих. Один из них — Вернер Гейзенберг, сделавший в Гёттингене свои самые значительные открытия, которые принесли ему Нобелевскую премию. Второй, также Нобелевский лауреат — Эрвин Шрёдингер, сформулировавший в спорах с Борном многие основные положения квантовой физики, которой занимался всю свою жизнь.