А еще мы верили в гласность. Это слово пришло к нам от Герцена, и между собой мы часто его употребляли. Любопытно, что и Горбачев позже выбрал это слово, но оно давно уже было в русской культуре. Забавно, что именно в эпоху гласности меня три года не пускали в Россию. Был список из ста пятидесяти нежелательных иностранцев, которых не хотели здесь видеть. Пришлось и за это побороться. В «Вашингтон пост» вышла статья о том, что в Советском Союзе большие перемены, а Литвинова вот не пускают. Но в конечном счете в 1990 году я все-таки приехал. И с тех пор приезжаю каждый год.
Я всю жизнь прожил с ощущением свободы, я делал то, что хотел. Мне было стыдно за страну, которая вторглась на территорию маленького соседа, в Чехословакию. И я вышел на площадь.
Вообще жизнь была и есть очень интересная. Потому что я живу в двух культурах. Россия — это душа, это моя память, родина, друзья. Америка мне нравится, как страна идеалистическая, но вместе с тем хорошо обустроенная и четко функционирующая. Я сохранил в себе интерес и любовь к России, но жил на свободе. Так что я очень счастливый человек и ни о чем не жалею.
Рой Медведев

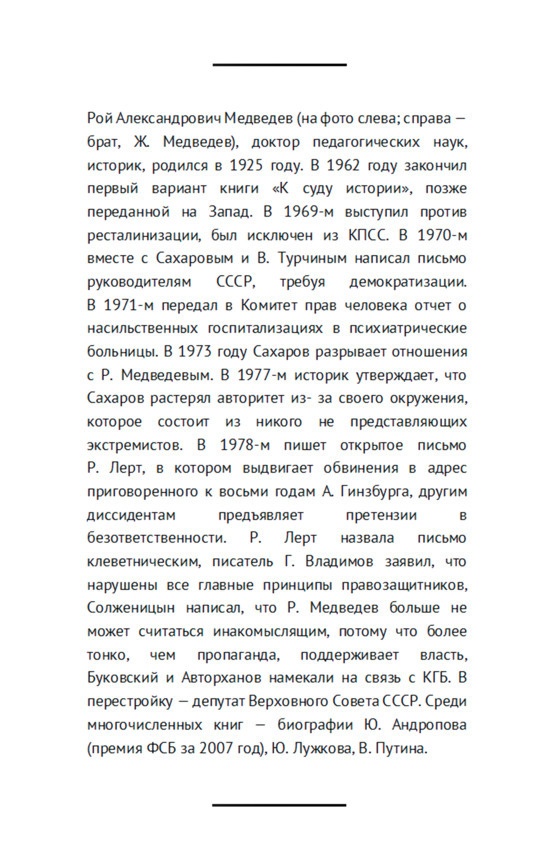
Политические интересы у моего поколения проявлялись рано. Мне было всего десять лет, когда убили Кирова, и я видел, как горевали мои родители. Мы жили тогда в Ленинграде. Из Москвы приехал Сталин, в школе провели собрание, а отец взял меня на ночную демонстрацию с факелами в память о Кирове. И тогда у меня проснулся интерес к политике, я стал читать газеты, обсуждать с одноклассниками процессы по делам Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова. Кроме того, была пионерская организация, где нас информировали, настраивали и натаскивали.
Я помню демонстрацию 1936 года, когда первый раз увидел Сталина на трибуне Мавзолея, и свой восторг. Тогда я еще хорошо к нему относился. Все изменилось в 1938-м, когда арестовали моего отца. Для нас с братом это была трагедия; я очень любил отца и никогда не верил в его виновность. Мать громко кричала и обвиняла во всем Сталина. Так мы узнали, что власть бывает несправедлива.
После ареста отца всю нашу семью выселили из служебного дома прямо на улицу, зимой. Коменданты здания вызвали рабочих, мебель вынесли на снег. Мать тут же, прямо во дворе, все продала. Только библиотеку с собранием сочинений Сталина отвезла двоюродным сестрам. День мы провели просто на улице, потом переехали к родственникам в Москву и спали на полу, потому что жили тогда очень тесно.
С нами никто не общался. Два года у нас не было собственной квартиры. Мать никогда раньше не работала, а тут ей пришлось устроиться в оркестр, который играл в кинотеатре в Клину. Няня от нас ушла, и мы были предоставлены сами себе, поэтому быстро стали самостоятельными. Но масштаба трагедии не понимали, несмотря на всю тяжесть жизни. В нас была еще вера в какие-то идеалы социализма. Хотя к существующему тогда правительству отношение было сложное — слишком много несправедливости совершалось вокруг.
Отца осудили на восемь лет с правом переписки — за бухаринские настроения. Не участие в бухаринской оппозиции, а именно настроения! Он понимал, в каком положении оказалась семья, и советовал нам с братом поступить в ремесленное училище. Но мы упорно стремились окончить школу, а затем получить высшее образование.
Мы рано повзрослели и рано начали мыслить. Свою первую книгу я написал еще в девятом-десятом классе. Отец велел нам продать художественные книжки, но оставить научную библиотеку. Еще в школе я прочел Энгельса, а в старших классах Маркса и Гегеля. И на философский факультет я пошел сознательно. Выбрал профессию отца, который был преподавателем философии в военно-политической академии, комиссаром Красной армии. Кстати, академия была репрессирована практически полностью — все преподаватели, начальники, многие слушатели были арестованы.
Когда началась война, мы жили в Ростове: маме удалось выменять там две комнаты. Немцы подошли к городу очень быстро, и театр, в котором работала мама, эвакуировали в Тбилиси; пришлось снова переезжать и ютиться у родственников. Нам с братом было по семнадцать лет, и нас призвали в армию. Жорес попал на Северо-Кавказский фронт, был тяжело ранен и стал инвалидом войны. В 1944 году он пошел учиться в Тимирязевскую академию, поскольку увлекался биологией. А я попал в систему Закавказского фронта, на котором не велись боевые действия. В окопах я не сидел, а работал в системе артиллерийского арсенала.
После войны решил поступать в Ленинграде, где у меня жили две родных тетки. В анкете написал, что отец погиб в сорок первом году, хотя на самом деле он умер в лагере, на тяжелых оловянных рудниках. Но этого я не стал указывать, и ко мне, как к человеку, служившему в армии, отнеслись очень положительно.
Я успешно окончил философский факультет Ленинградского университета, получил диплом с отличием. Но в аспирантуру меня не рекомендовали, потому что началось «Ленинградское дело» — аресты 1948–1949 годов. Арестовали многих профессоров нашего факультета, сняли декана. Пока я учился, по разным обвинениям были арестованы восемь студентов. Тем не менее я получил свой диплом, и меня отправили на Урал, где с 1951 года я работал учителем истории.
Вернувшись в Ленинград (и поступив в московскую заочную аспирантуру), я попросил назначить меня директором школы, чтобы иметь возможность проводить педагогические эксперименты. У меня был огромный выбор, но я остановился на сельской школе с большим участком земли на берегу Финского залива, с отдельным домом для директора. Я был тогда единственным беспартийным директором в Ленинградской области: чтобы вступить в партию, нужно было предоставить подробную биографию, написать про репрессированного отца. Через три года защитил диссертацию, перебрался в Москву и занялся научной работой в издательстве «Просвещение».
В 1956 году нас вызвали в райком партии и прочитали доклад Хрущева о культе личности Сталина. И после этого я подал заявление о приеме в КПСС. Я был уверен, что теперь все изменится. Отца реабилитировали. Начали возвращаться те, кто остался в живых. Я нашел двух отцовских друзей. Они рассказали мне о следствии, о лагерях, о пытках, обо всей несправедливости сталинской власти. Тогда я принял решение написать книгу против сталинизма, «К суду истории»; понял, что это мое дело. Первый ее вариант был готов в 1962-м, но в ней было всего сто страниц: не хватало материала. Но технология написания подобных книг была уже отработана моим братом, Жоресом Медведевым. Он еще в 1959-м распространил среди московской интеллигенции свою рукопись о Трофиме Лысенко. Люди делали свои замечания, брат исправлял рукопись, добавлял факты. Я поступил так же: давал читать рукопись старым большевикам, друзьям отца и новым знакомым. Параллельно читал новые мемуары, расширял книгу. Так она выросла до четырехсот страниц.

