Для краткости я употреблю высокие слова — политикой будущего, политическим идеализмом, а не «риал политик», которая была точно описана Никколо Макиавелли. Эта макиавеллиевская политика грозит нам всем — не только в России, но и в целом на планете Земля — огромными бедами. Она стала самой страшной опасностью для человечества. Это я могу как профессионал-биолог объяснить. То, что называется «ксенофобия» и имеет другое название «патриотизм», — на самом деле приспособительный признак. Чужой тебя может сожрать — и это очень плохо. Ты тоже можешь чужого сожрать — и это хорошо. Так вот, правозащитники занимаются борьбой с «риал политик», выдвигая требования совершенно политического характера. Честный выбор — это что? Это правовое требование? Нет, это политическое требование, это требование об основаниях политики, вопрос о стране, в какой мы хотим жить. И мы понимаем, что жить в стране, устроенной иначе, безнравственно и опасно. К сожалению, этой точки зрения в «Мемориале» держится мало кто, и мои близкие друзья в «Мемориале» с уважением меня слушают и считают, что дедушка это… бредит.
Кстати, где-то я прочитал, в каком-то блоге: «Очень пожилые и никого не представляющие правозащитники». В некотором смысле это правильные слова, потому что мы и не старались никого представлять. Я всегда считал, что я представляю некоего Ковалева — вот и все. Ну найдутся единомышленники — это ж ради бога, но я никем не делегирован. И это наша идеология. Буду честен как на духу. В нынешнем протестном движении есть довольно заметный элемент политиканства. Ну вот, господин Удальцов говорил: «Я с площади уйду только после того, как Путин уйдет из Кремля». Ну зачем он это делал? Он же точно знает, что уйти с площади придется гораздо раньше. Вот если бы он принадлежал к диссидентам шестидесятых — восьмидесятых, то независимо от политической ориентации он бы сказал: «Я отсюда не уйду, пока меня не вытащат омоновцы, я так решил. Если кто-то хочет со мной остаться — пожалуйста, я никого не призываю. Просто сообщаю о своем решении». И он поступил бы честно. Но он говорит другие слова.
И не только левые так поступают. Я не знаю, может быть, и был 6 мая 2012 года отряд засланных казачков среди националистов, я это допускаю. Но когда камни полетели, это делали не только нанятые провокаторы. Понимаете? И это не есть хорошо. Те, кто занимал гражданскую позицию в шестидесятых — восьмидесятых, так бы не поступили. Среди нас не нашлось бы таких, это я вам точно говорю.
Вера Лашкова

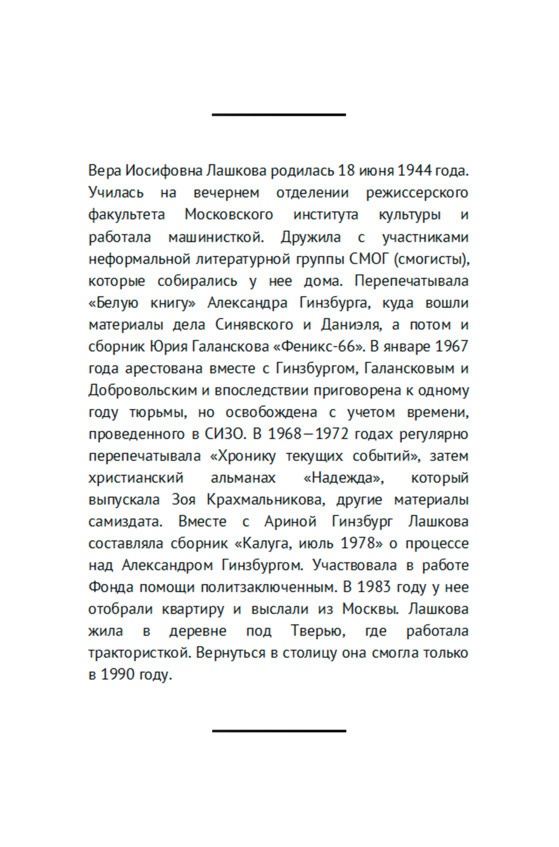
Раньше все мы жили в коммуналках. Обитали в них разные люди, в том числе замечательные; они меня и воспитали. Я слушала их разговоры, как сейчас уже понимаю, критические. И настроения у меня складывались соответствующие.
Нужно сказать, что семья моя была фактически неполная, потому что отец жил в Смоленске и не хотел переезжать в Москву. А мама, которая обитала со мной в Москве, не хотела переезжать к отцу. Он лишь изредка появлялся у нас, навещал. Отец был довольно простым человеком, всю жизнь работал на железной дороге, был верующим, причем воцерковленным, пел в соборе и был всеми очень уважаем. Я уже не помню точно, кем именно он служил (кажется, дежурным по вокзалу), зато знаю, что его постоянно понижали в должности за то, что он ходил в церковь, угрожали. Тогда так боролись с верующими. Но отец не сдавался. И более того, оказывал сопротивление, стоял на своем. Может быть, от отца у меня такой характер, не знаю… Его, к счастью, так и не посадили.
И мамина семья была очень простая. Мама была дочерью репрессированного. Моего дедушку Семена раскулачили, хотя кулаком он не был, просто у них был очень хороший дом под Тверью и сосед написал на него донос. Деда посадили, отправили на Беломорканал, дом отобрали, а детей — маму, ее брата и сестру — выгнали на улицу. Им помог брат дедушки, который взял детей в Москву и сумел дать им какое-то образование. Мама всю жизнь хотела учиться, но ее никуда не брали. Она так и осталась поваром. А моя тетка, крестная моя, была портнихой. Их брат Ваня, уцелевший тогда, погиб все-таки при сталинских репрессиях. Со стороны мамы было много репрессированных родственников. Я помню, как вернулся дядя Коля и какой он был странный. Все это были политические репрессии. И все это меня окружало, потихоньку ручейками ко мне стекалось.
Мне очень хотелось быть режиссером. Я с удовольствием поступила в институт культуры и проучилась там два курса, прежде чем меня арестовали. К тому моменту уже сложился наш тесный кружок, в него входили молодые ребята — смогисты, потом Вовка Буковский появился. Знакомились чаще всего в библиотеках, прежде всего в Ленинке. Раньше это было нормально — проводить в библиотеках много времени. Потому что в домах не было большого количества книг. И, наверное, достаточно познакомиться с кем-то одним, как вокруг тебя возникает сообщество удивительных людей. Это были молодые ребята, очень талантливые. В первую очередь, конечно, Володя Алейников и Ленька Губанов, Сережа Морозов.
Мы почему-то очень любили декабристов. Я помню, с каким упоением читала про них, меня страшно интересовал их внутренний облик, моральный, нравственный, их поведение — все это было очень интересно. Именно потому, что они противопоставляли себя режиму, бросали ему вызов. И было какое-то тяготение к этому опыту, к подобному настрою. Хотя мне не нравилось, что декабристы могли позволить себе мысли об убийстве. Это мне было не близко.
Конечно, смогисты не были политически настроены. Они хотели одного — чтобы их печатали. Была даже одна демонстрация очень известная, 14 апреля 1965 года; в день гибели Маяковского они требовали, чтобы СМОГ признали творческой организацией, позволили свободно выступать. Если политика и была, то достаточно куце выраженная; правда, побить их все равно успели — дружинники во время разгона. И первый самиздат тоже был не политический, а поэтический. Я вообще не помню, чтобы я читала тогда Солженицына или большую прозу. Это случилось уже позднее; сначала были стихи.
Политика началась, когда была задумана демонстрация в день рождения Сталина — против нараставшего процесса ресталинизации. Мы напечатали листовки на машинке — просто текст с призывом к протесту против возрождения культа Сталина. Листовки потом фигурировали на суде как доказательство. Это был уже политический самиздат, его начало по крайней мере. Потом появилась «Белая книга» — наверное, ее можно считать полноценным политическим самиздатом. Хотя в ней как раз никакого призыва не было, только констатация фактов, и все. Вообще наш советский самиздат очень часто заключался в том, чтобы писать правду. В противовес тому, что преподносили газеты, радио и всякие пропагандисты, просто излагалась правда. Без выводов, без агитации, для ограниченного круга, крошечным машинописным тиражом. Позже самиздат стали передавать западным корреспондентам, которые вещали через свои станции на весь мир. И это, конечно, была уже чистая политика, хотя, повторюсь, содержание было не политическим. И по сути все репрессии были направлены против стремления к правде. Как такового.

