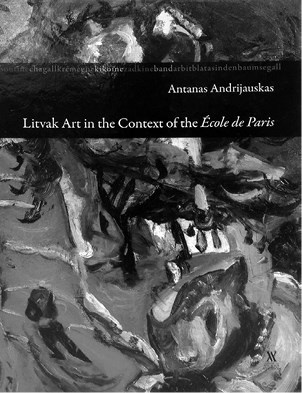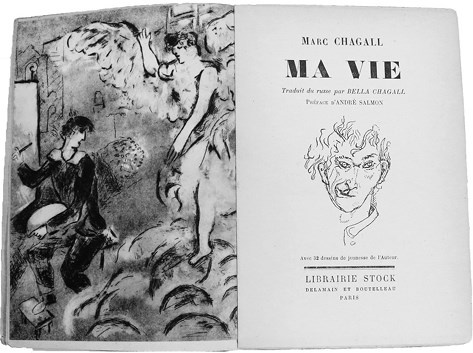К тому же, если и говорить о созданных ими «польских» пейзажах, то они сродни Витебску М. З. Шагала: таким, каким он существовал на его полотнах, он не существовал более нигде. Этот важный момент отметил критик, посетивший посмертную выставку Давида Гарфинкеля: «Его натюрморты, пейзажи открывают нам удивительный мир, который дышит возвышенной ностальгией. <...> Гарфинкель воскрешает на своих полотнах польский городок, который он когда-то знал и который теперь живет лишь в поэтическом мире его картин»70.
Именно так: мир идишкайта после Холокоста в Восточной Европе более не существовал; это прошлое, ушедшее, по всей видимости, навсегда.
Если украинские, белорусские и польские авторы исходят из нынешних границ своих национальных государств, то профессор Вильнюсской Академии художеств Антанас Андрияускас, у которого литовскими евреями оказались и Хаим Сутин, и Марк Шагал, и Пинхус Кремень, и Михаил Кикоин, и Осип Цадкин, и Лев Инденбаум, апеллирует к границам средневекового Великого княжества Литовского, в шесть раз превосходившего территорию нынешней Литвы, карту которого он поместил во введении к своей обстоятельной книге71. Хорошо известно, что в Виленской губернии из шести вышеперечисленных художников родился только Пинхус Кремень, все остальные родились на территории нынешней Беларуси, а учеба Хаима Сутина, Пинхуса Кременя и Михаила Кикоина в Вильне была весьма кратковременной. Однако профессор Андрияускас исходит из того, что евреи в тех районах Беларуси, где родились и выросли все эти художники, на протяжении столетий сохраняли память о средневековой Литве, что для них это была не Беларусь, а Лита, земля литваков. Начиная с того, что критики и современники называли Хаима Сутина peintre lituanien [«литовским художником»]72 — это утверждение, кстати, верно лишь применительно к некоторым публикациям, — автор причисляет к числу литовских художников всех живописцев и скульпторов «еврейского Монпарнаса», семьи которых исторически могут быть отнесены к духовно-религиозному миру «литваков», как хасидов, так и их оппонентов. Ирония судьбы состоит в том, что если бы Хаим Сутин, Михаил Кикоин и остальные жили сообразно мировоззрению своих семей, сохранявших верность иудаизму в целом и Второй заповеди в частности, они бы никогда не стали художниками.
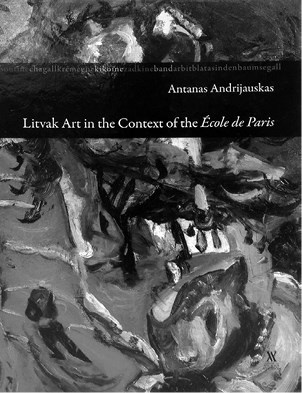
Ил. 22. Книга: Antanas Andrijauskas. Litvak Art in the Context of the École de Paris (Vilnius: Art Market Agency, 2008). На обложке — фрагмент картины Хаима Сутина «Пейзаж в Кань-сюр-Мер», 1923/24 г.
В принципе, не может не радовать тот факт, что и в России, и на Украине, и в Беларуси, и в Польше, и в Литве растет внимание к наследию самобытных художников «еврейского Монпарнаса» (к которым, впрочем, Лев Бакст едва ли относится), десятилетиями живших в бедности и не вызывавших почти ничьего интереса. Проблема при этом не только в том, что происходит исторически нелогичная «приватизация» наследия художников «еврейского Монпарнаса»: в каждой из этих стран оно встраивается в местное культурно-историческое наследие, частью которого эти художники не были. Главное же, что, обращаясь исключительно к «своим» уроженцам, авторы доктрин, вписывающих художников «еврейского Монпарнаса» в историю русского, украинского, белорусского и польского искусства, разрывают единую ткань «Парижской школы», вплетая Шагала, Сутина, Кременя и Кикоина в одну национальную традицию (белорусскую или литовскую), Маневича, Мане-Каца, Баранова-Россине, Добринского — в другую (украинскую), Кислинга, Хайдена, Гарфинкеля, Эбиша и Готтлиба — в третью (польскую), оставляя при этом Модильяни, Паскина и других за бортом, поскольку в историю русского, украинского, белорусского или польского искусства вписать их невозможно ни по какому критерию. Сообщество художников Монпарнаса было целостным феноменом восточноевропейской еврейской художественной диаспоры, связанной с актуальными тенденциями тогдашней художественной жизни многонациональной Франции. Как справедливо, хоть и не без юмора, указывал Жан-Поль Креспель, «в период с 1910 по 1930 год на Монпарнасе жили художники самых разных национальностей, и он вполне мог бы стать зародышем Лиги Наций»73.
При этом большая часть художников так называемой «Парижской школы» — это именно восточноевропейские евреи, которые, даже будучи рождены на территории Российской империи, совсем не всегда даже говорили по-русски. Х. Сутин, книга о котором вышла в серии «Художники русской эмиграции», в конце жизни утверждал, что не знает русского языка, и, как отмечал Ж. — П. Креспель, это было действительно так: с идиша он сразу перешел на французский74. Хаим Сутин родился в местечке Смиловичи Минской губернии, как и Файбиш-Шрага Царфин; Михаил Кикоин — в Речице Гомельской губернии; Пинхус Кремень — в местечке Желудок Виленской губернии; Хаим-Яков Липшиц — в Друскениках Гродненской губернии; Роберт Генин — в селе Высокое Климовичского уезда Могилевской губернии, а рос в доме деда в местечке Красовичи (ныне Красавичи); Давид Гарфинкель — в городе Радом в сотне километров к югу от Варшавы, где, согласно переписи населения 1897 года, евреи составляли 39 % населения (там же родился писавший на языке идиш крупный еврейский поэт и писатель Исроэль Рабон, погибший в огне Холокоста), и т. д. Все они выросли в сугубо еврейской среде, практически никак не будучи вовлеченными в русскую (и уж тем более украинскую, белорусскую, литовскую и польскую) культуру.
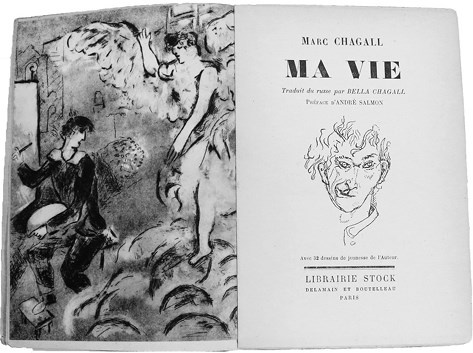
Ил. 23. Авантитул и титульный лист автобиографической книги: Chagall Marc. Ma Vie (Paris: Éditeur Stock, 1928). На авантитуле — эскиз к картине «Видение (Автопортрет с Музой)», 1918 г.
Марк Шагал — один из очень немногих художников «еврейского Монпарнаса», во-первых, поживший перед Парижем в Петербурге, а во-вторых, издавший, причем уже в молодости, автобиографию, честно рассказывал в ней о своем вопиющем пренебрежении русским искусством:
Лувр. Бродя по круглому залу Веронезе или по залам, где выставлены Мане, Делакруа, Курбе, я уже ничего другого не хотел. Россия представлялась мне теперь корзиной, болтающейся под воздушным шаром. Баллон-груша остывал, сдувался и медленно опускался с каждым годом все ниже. Примерно то же думал я о русском искусстве вообще. Всякий раз, как мне приходится размышлять или говорить о нем, я испытываю сложное, невыразимое чувство, замешенное на горечи и досаде. Как будто русское искусство обречено тащиться на буксире у Запада. Но, при том что русские художники всегда учились у западных мэтров, они, в силу своей натуры, были дурными учениками. Лучший русский реалист не имеет ничего общего с реализмом Курбе. А наиболее близкий образцам русский импрессионизм выглядит чем-то несуразным рядом с Моне и Писсарро. Здесь, в Лувре, перед полотнами Мане, Милле и других, я понял, почему никак не мог вписаться в русское искусство. Почему моим соотечественникам остался чужд мой язык. Почему мне не верили. Почему отторгали меня художественные круги. Почему в России я всегда был пятым колесом в телеге. Почему все, что делаю я, русским кажется странным, а мне кажется надуманным все, что делают они75.