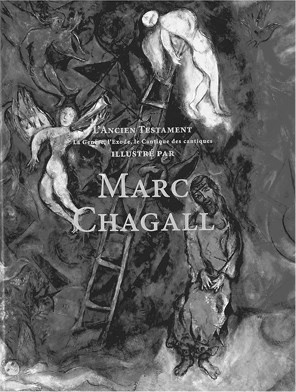Почти про всех верно будет сказать, что они уехали в космополитичный Париж, чтобы перестать быть евреями в традиционном смысле этого слова. Иудаизм запрещает всякое изображение человека. Заповедь «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в водах ниже земли» подавляла развитие изобразительного искусства в еврейской среде. В Средние века иудейские религиозные законы против искусства стали еще более жесткими: был введен запрет на изготовление выпуклых изображений не только человека, но также льва, орла и быка; запрещались также изображения солнца, луны и звезд. В «Еврейской энциклопедии», выходившей с 1906 по 1913 год, как раз когда во Франции оказались почти все художники и скульпторы, которых постфактум стали относить к «Парижской школе», справедливо отмечалось:
Обозревая всю еврейскую историю, мы видим, что пластическое искусство только временами проникало к евреям из соседних стран, но никогда не находило среди них благоприятной почвы для своего развития. Исторические судьбы еврейского народа, политический и религиозный быт его и характер его миросозерцания препятствовали тому, чтобы искусство этого рода свило себе гнездо среди него49.
Учитывая, что еврейство в традиционном понимании — это одновременно и конфессия, и этнос (в иврите нет разделения между словами «еврей» и «иудей»), уроженцы еврейских семей, выбиравших путь художников и скульпторов, фактически порывали с той этноконфессиональной средой, к которой они принадлежали.
При этом разрыв этот был вполне осознанным, о чем свидетельствуют, в частности, слова Марка Шагала, произнесенные им в 1931 году:
Как только евреи сбросили оковы традиции (sic!) и взяли на себя смелость переосмыслить законы, ставившие под запрет пластическое искусство, они оказались не менее талантливыми художниками, чем признанные мастера других национальностей. Конечно, первые [еврейские] художники работали в академической манере и до конца не понимали своей особой роли, однако после них пришли другие, они-то и запели в полный голос50.
Цитируя в 1935 году Вторую заповедь, М. З. Шагал отмечал:
Наш монотеизм был куплен дорогой ценой — из-за этого иудаизму пришлось отказаться от созерцания природы простым глазом, а не духовным, внутренним взором. На основании этого в древности иудаизм боролся с идолопоклонством, следы которого можно увидеть сегодня во всех музеях мира, а мы в результате лишились бесценных образцов пластического искусства. Ничего музейного у нас нет, если не считать свитков Торы да заброшенных синагог, в которые уже почти никто не ходит. Но мы, новые евреи, восстали против этого, мы больше не хотим мириться с таким положением дел, мы хотим быть не просто народом Книги, но еще и народом Искусства51.
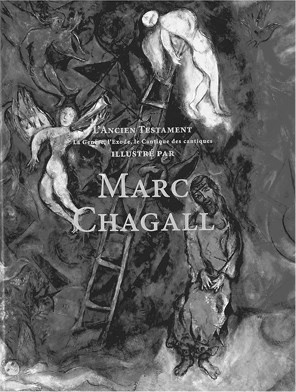
Ил. 16. Обложка книги «L’ Ancien Testament. La Genèse, l’Exode, le Cantique des Cantiques. Illustré par Marc Chagall» (Editions France Loisirs, autorisé par Editions du Chêne, 2014). На обложке — картина М. З. Шагала «Сон Яакова»
Сам М. З. Шагал создал на протяжении десятилетий огромный корпус произведений, которые чисто формально могут считаться «иллюстрациями» к Библии; количество этих работ столь велико, что целый ряд изданных к настоящему времени книг об этом великом живописце только этой грани его творчества и посвящены.
Но «сбрасывание оков традиции» не приводило к изменению системы, если так можно выразиться, национально-интеллектуальных координат: говоря об искусстве, которое создавал он и его единомышленники, М. З. Шагал в том же выступлении сравнивал этот процесс ни с чем иным, как с созданием Библии: «Мы, новые евреи, тысячу лет назад создавшие Библию, творение Пророков, основу всех мировых религий, мы хотим создать также и великое искусство, такое, которое прозвучало бы на весь мир»52.
Натали Хасан-Брюне не без оснований отмечала, что «нигде, кроме Парижа, эти еврейские художники не могли оторваться от своего происхождения»53. В результате сложилась удивительная ситуация: символом космополитичного духа художественной Франции первых десятилетий XX века была объявлена «Парижская школа»: тут и уроженец Италии Амедео Модильяни, и выходцы из Австро-Венгрии Моисей Кислинг, Александр Хеймовиц и Вилли Эйзеншитц, и приехавшие из Российской империи Марк Шагал (настоящие имя и фамилия — Мойше Сегал), Хаим Сутин и Мане-Кац (Мане Лейзерович Кац), и эмигрировавший из Болгарии Юлиус Мордехай Паскин (настоящая фамилия — Пинкас), и родившийся в Германии Рудольф Леви, есть даже отдельные коренные граждане Франции, в частности Макс Жакоб, — воистину интернационал! Однако то, что предстает примером дивной полифонии с точки зрения гражданского происхождения, оказывается почти полностью однородным с точки зрения этноконфессиональной: в Париж заниматься искусством бежали (иногда в прямом смысле слова) в основном евреи, пусть и из разных стран Восточной и Центральной Европы. Речь идет о диаспоре, чья идентичность была сконструирована постфактум, исходя из доминирующей сегодня как во Франции, так и в США концепции «гражданской нации». Национальное многоголосье «Парижской школы» — в значительной мере иллюзия, являющаяся следствием того, что в английском и французском языках понятие «нация» означает то, что в русском языке принято называть «гражданством». Когда разные авторы пишут о космополитичной атмосфере «Парижской школы», они, фактически, анализируют очень своеобразное и характерное явление — еврейский космополитизм эпохи, оказавшейся периодом, предшествовавшим Холокосту, жертвами которого стали и несколько десятков живших и работавших на Монпарнасе и на Монмартре художников, в том числе и Макс Жакоб, погибший то ли из-за того, что был евреем, то ли из-за того, что был гомосексуалом. В годы нависшей над ними смертельной опасности Франция смогла — и захотела — защитить очень немногих из художников «Парижской школы», даже когда речь шла об уроженцах страны.
Коль скоро «школа», пусть и никогда не существовавшая, была названа искусствоведами «Парижской», а парижский Музей искусства и истории иудаизма предлагает книги и альбомы едва ли не обо всех художниках, к этой «школе» относимых, важно разобраться, как существовали эти люди во французском искусстве. Упоминая о том, какое большое количество художников (да и вообще иммигрантов) прибыло во Францию до и после Первой мировой войны, предполагается само собой разумеющимся, что, в отличие от других стран, французское общество не было заражено ксенофобией и, в частности, антисемитизмом. Действительность, однако, была в значительной мере другой. На самом деле со второй половины 1920-х годов по стране одна за другой прокатывались волны антисемитских выступлений, за которыми стояли националистические организации, такие как Action française [«Французское действие»], Jeunesses patriots [«Патриотическая молодежь»], Les Croix de feu [«Огненные кресты»] и другие. В обзорной монографии «История евреев Франции» в параграфе о 1920-х годах указывается, что «существование в то же самое время множества еврейских арт-дилеров и критиков вызвало антисемитскую реакцию в период подъема национализма и консерватизма»54. Антисемитизмом было, очевидно, заражено и французское искусствоведение. Так, в 1925 году известный в то время арт-критик Луи Воксель (Louis Vauxcelles, 1870–1943) написал в «Le Carnet de la semaine» [«Листок недели»]: