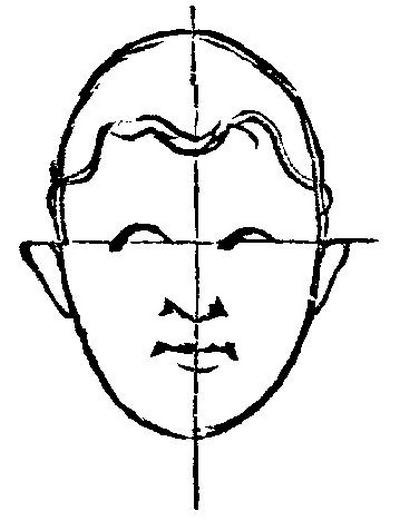Таким образом, в сердце загадки – господствующая над всей композицией дубовая доска, одновременно видимая и таимая, массивная и осязаемая (ее тень падает на пол, словно не давая проникнуть в мир картины) и все же неуловимая, ускользающая. Как и все материальные предметы на картине, фактура которых тщательно прописана: дощатый пол, осыпающаяся штукатурка, мольберт с его штифтами и отверстиями, – деревянная доска изображена во всех подробностях. Поначалу кажется нелепой причудой, что Рембрандт с особым тщанием выписал никому не интересную заднюю сторону доски: продольные неровности на дереве, снятые фаской края, причем один из них, обращенный к зрителю, ярко освещен, словно он вобрал все лучи солнца, падающего из окна, которое, как можно догадаться, расположено слева.
Заурядные живописцы так не поступили бы. Они совершенно не стремятся к таинственности. Напротив, они поспешили бы продемонстрировать все свои умения и убедились бы, что предоставили нам всю необходимую для саморекламы информацию. Мы могли бы заглянуть через их плечо и смотреть, как они пишут Вирсавию, или Венеру и Марса, или цветочную вазу, или зверьков, или себя. Мы бы увидели, как они сидят, а иногда и стоят, не скрываемые мольбертом, чтобы мы могли оценить их обходительную или властную манеру держать себя; за работой они могли бы по желанию предстать перед нами блестящими и элегантными кавалерами, или суховатыми педантами, поглощенными живописной задачей, или веселыми бонвиванами, или благоденствующими счастливцами. Они словно просили бы нас, зрителей: «Ну восхититесь, восхититесь же нашим разрезным камзолом, плоеными складками нашего идеально белоснежного воротника, дворянским гербом, ненавязчиво помещенным у нас за спиной!» На наш испытующий взгляд они ответят взором столь недвусмысленным, что тотчас становится понятно: главная их забота (разумеется, после собственного блага) – как бы угодить нам, меценатам, покровителям. Они готовы очаровывать и похваляться собственными достижениями. Вот на что мы способны, ну разве это не чудно? Разве не поражает воображение наша насыщенная киноварь? Разве не сравнятся со снегом наши свинцовые белила? А наш телесный тон? Он просто ласкает взор, ничуть не уступая венецианцам! А какой у нас дорогой ультрамарин! Восхищайтесь нами, покупайте наши полотна, осыпайте нас почестями – и так продемонстрируете всему миру, сколь безупречен ваш вкус.
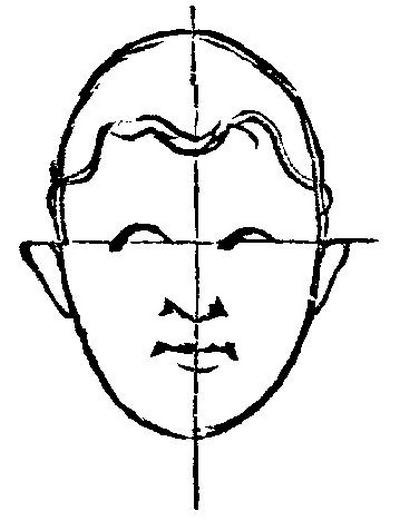
Виллем Гуре. Иллюстрация из «Inleyding Tot de Algemeene Teycken-Konst…» («Введения в общий курс графики…»), первое издание Мидделбург, 1668. Частное собрание
Но маленький человечек в длинном подпоясанном одеянии не спешит принимать эффектную позу. Хуже того, он совершенно не обращает на нас внимания. Его даже нисколько не волнует, что зрители не увидят изображение на лицевой стороне деревянной панели в его вымышленном мире, ведь он убедительно заявил о себе, сотворив всю эту иллюзию, частью которой стала деревянная доска с потаенной картиной маслом, эту скудно обставленную комнату, в которой стоит мольберт. И пятно облупившейся штукатурки, и тонкие расходящиеся трещины над дверью, и разводы плесени на стене, и царапины на дощатом полу – все это безоговорочно свидетельствует о его мастерстве, его искусности, ars, умении создавать живописную иллюзию. А впечатляющая линия перспективы, проведенная вдоль пола, подтверждает, сколь неукоснительно Рембрандт следовал строгим законам живописи, disciplina, знать и соблюдать которые должны были даже наиболее оригинально мыслящие художники.

Ян Баптист Колларт по оригиналу Иоганнеса Страдануса. Color Olivi (фрагмент). Ок. 1590. Гравюра из цикла «Nova Reperta». Кабинет гравюр, Рейксмюзеум, Амстердам
Выходит, Рембрандт поставил себе цель куда более честолюбивую, нежели самореклама или попытка доказать, что он не просто pictor vulgaris. Он представляет себя как олицетворение живописи, ее техники и ее законов и, не в последнюю очередь, лежащего в ее основе творческого воображения, власти вымысла
[32]. Вот почему он одет или, скорее, облачен в торжественные, парадные длинные одеяния: накрахмаленные брыжи, невероятно роскошный синий плащ-табард с золотым воротником-шалью и с широким поясом, ничем не напоминающие бесформенные и бесцветные рабочие блузы, в которых он предстанет на графических и живописных автопортретах 1650-х годов
[33]. Завороженный взор художника прикован к деревянной доске картины, он не замечает внешнего мира и не замечает нас. Он всецело захвачен своей сложной, изощренной задачей, он испытывает восторг отвлеченного мышления, поэтический furor, одновременно экстаз, безумие и ярость, – по мнению исследователей Микеланджело, неотъемлемую часть божественного вдохновения
[34].
Искусствоведы горячо спорили по поводу того, какая именно стадия художественного процесса запечатлена на картине «Художник в мастерской». Некоторые утверждали, что это мгновение первоначального замысла, озарения, предшествующее первому мазку, нанесенному на деревянную панель. Другие же настаивали, что поскольку художник держит маленькие кисти и муштабель, употребляемый живописцами, когда они прописывают детали, в качестве опоры для руки (на манер бильярдного «мостика»), то перед нами краткий перерыв в завершающем этапе работы, а художник отошел от картины на несколько шагов и в задумчивости размышляет, не притронуться ли к картине кистью здесь или, может быть, там
[35]. Однако это не жанровая сценка, не моментальный снимок повседневной жизни молодого Рембрандта, работающего до изнеможения. Это краткая грамматика живописи, описывающая ее существительные и глаголы, это взгляд на живопись, со всеми ее хитроумными приемами и чудесной магией, как на призвание и труд, тяжкую работу и полет фантазии.