— Но ты думаешь, что то не одно и то самое? — спросила бабушка, улыбаясь, — он всегда ждёт свой час, то час печали — не будь смутный, не дай ему права…
В ответ я неожиданно зевнул. В челюсти у меня хрустнул сустав.
— Спать, Лесик, спать, спать, — сказала бабушка и развернула меня в сторону двери. — Я запарю шиповник и ложусь так само. — Зевнув, она пошла к плите. Звякнули подвески на бра. — Иди спать. Сегодня не случится ничего интереснего. Гарантую, — повторила бабушка.
Как всегда она похлопала рамами, досыпая в выставленные между ними синие хрустальные плошки соль. «Жебы не змерзали окна…».
В соседнем подъезде кто-то бессонный, наслушавшись синкопов от Вороновских, робко постучал по трубам.
— Так всё-таки про боль, — вспомнил я черный плащ Всадника и гулкий топот его коня. — Как я могу её не чувствовать? Особенно чужую?
— Только обернувшись на зло, — сказала бабушка и выключила чайник.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
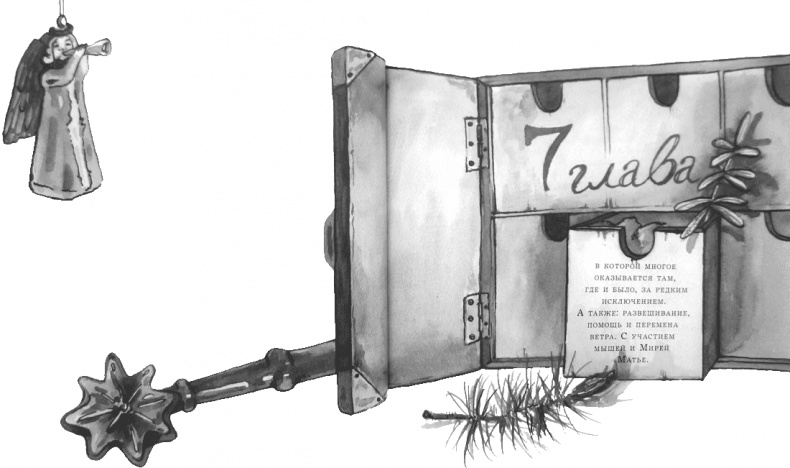
в которой многое оказывается там, где и было, за редким исключением
А также: развешивание, помощь и перемена ветра
С участием мышей и Мирей Матье

24 декабря. Вигилия.
Понедельник — день Луны. Сообразно госпоже своей, переменчив с утра до вечера, беспокоен и считается тяжелым. Луна, повелительница всякого непостоянства, всеми сторонами своими сообщает людям обманную нежность чувств, томление духа и мечтательное состояние. Как и море, с которым связана.
Рожденные в понедельник дети Луны чаще других подвержены унынию, капризам, меланхолиям и обуреваемы подозрениями, во многом пустыми.
Все дороги, кроме морских, в этот день неблагоприятны ввиду случайностей. Поэтому день понедельник лучше всего уделить хлопотам домашним и близким людям, а также родне — дальней и ближней.
На гравюре из Старой Книги под покровительством Луны изображены самые разные фигуры — в их числе рыбаки и мореплаватели, отравители, воры, мужчины, одетые в женское платье, и вместе с ними разного рода жонглёры, шуты, танцовщики, комедианты и йокулаторы — постановщики мистерий.
— Не могу найти серебряные ложечки и лопатку, — сердито заявила бабушка, врываясь в мой сон. — Ты не видел? Ищу, ищу… И ведь помню как чистила!
— Это какие, кошерные? — зевая с хрустом, спросил я. В ответ бабушка сдёрнула с меня одеяло.
— Мне не до кашрутов, — сказала она и почему-то оглянулась. — Настаёт Вигилия, а тебе жартыки.
— Чего это, бабушка, вы все озираетесь, немцев в городе нет, — съехидничал я.
— Я б так уверена не была, — проронила бабушка, высокомерно и поддёрнула рукав.
— Хочу сказать, не всё есть поводом до фиглювания. Такое, Лесик, — добавила она, — вставай… — Фигли, анекдота… — ворчливо повторила бабушка в пространство и удалилась на кухню, за ней осанисто пробежала Вакса.
— Нет, бабушка, не видел, — проорал я из ванной. — А зачем вам лопатка?
— Обкопаюсь, — мрачно ответила бабушка, кружа у кладовки. Открыть ее она не решалась — оттого была сердита.
Вода из душа ринулась на меня ледяная, я взвизгнул.
С той стороны двери бабушка кашлянула и ядовито поинтересовалась:
— Не обпёкся?
— Вскипел, — буркнул я, зажигая колонку.
Бабушка всегда принимала по утрам холодный душ. И делала зарядку. Мы с Ваксой нет. Холодной воды боялись, а лучшей зарядкой считали спортивное ориентирование в холодильнике. Популярное тогда моржевание и обтирание льдом бабушка не приветствовала.
— Холод безконтрольный — то дорога до катара, — говорила она своей старшей дочери, моржевавшей, обливавшейся и голодавшей.
— Катара чего? — нервно спрашивала тётя Зоня.
— Всего, Зонечка, абсолютне, — отвечала бабушка, и действительно, сколько я себя помню, тётя Зоня усиленно лечила всякие воспаления — мумиём, мочой, горячим молоком с мёдом и похожим на мутанта грибом из банки.
Бабушка воспринимала это философски и давала тётке аспирин — от суставов.
— Я стараюсь обходиться без таблеток, — гордо заявляла тётка.
— Попей в суспензии, — душевно говорила бабушка. — Я розведу тебе в склянке. Никто не заметит.
В календаре Адвента лежит сухарик и витаминки С — драже в железной банке.
— Доброе утро, — говорю я, вкатываясь в кухню, озарённую присутствием бабушки с Ваксой на тахте и Вии Артмане в телевизоре. — А что это такие щедрые дары? Где, в конце концов, фасоль с жуками? Очистки?… Ни камешка тебе, не песочка, ни крапивки какой. Гляньте, только сухарь — такой пир, просто разорение…
Бабушка свирепо смотрит на меня поверх очков.
— Май менший ензык, — отвечает она, отхлебывая, с явным отвращением, какое-то варево из кофейной чашки, я принюхиваюсь.
— Это цикорий? Да, бабушка? Цикорий? Как так? Так и до «стволов малины», дойдете — говорю я, исследуя тарелки и киски на столе. Выбор, откровенно говоря, невелик. Печёные яблоки, постная рисовая каша, чернослив, изюм, кислый даже на вид творог и сухари.
— Грешна, — отвечает бабушка и упирается взглядом в телевизор, там показывают «Театр». — Час отказаться от радости. Адвент.
— К примеру, не смотреть на Калныньша, — мстительно говорю я, смешивая яблоки и рис.
Бабушка покашливает.
— Э-э-э, — говорит она.
— Вот вам и эээ, — говорю я. — Надо быть последовательной.
— Рада, что ты такое вспомнил, — роняет бабушка и идет выключать телевизор. — Не лишне про то думать и на уроках. Может, не придётся прятать табель.
— У меня каникулы, — быстро говорю я.
— А я на пенсии, — отвечает бабушка. — Могу быть легкомысленна.
— И увлечь Зинзивера, — советую ей я. — К тому же от Адвента пенсии нет.
— Вакаций также, — доверительно сообщает бабушка и удаляется к себе.
Я доел и, прихлебывая узвар, несу посуду к раковине.
— Что сегодня… — кричу я бабушке, и вдруг ступню мою обжигает боль. — Ай!!! У-у-у, — и я подпрыгиваю на одной ноге, чайная ложка и вилка летят на пол.
Поставив в раковину посуду, я собираю с пола приборы и подёргивая, как собачка, ногой, яростно спрашиваю у выглядывающей из своей комнаты встревоженной, бабушки:
— Кто бросил на пол штопор? Вы тут что-то вскрывали ночью? Холодильник или полы? Хожу, как по подорванной улице…

