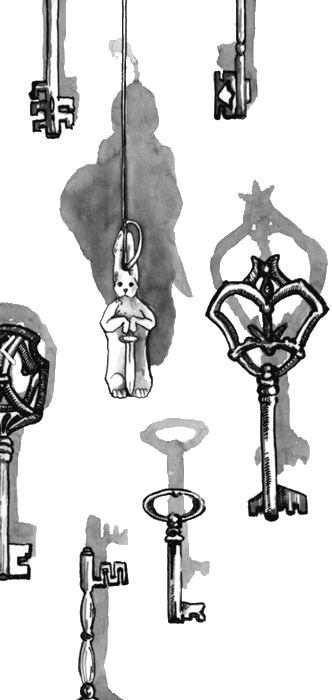— Чего стоит бояться прежде всего? — спрашиваю я, стоя лицом к темноте. Голосом бабушки темнота отвечает:
— Ночи, что идёт…
— Той, что гарцевала в бланках? — шёпотом говорю я, снова вспомнив тень от чёрной треуголки.
— Той, что идёт за днём, — отвечает бабушка. — Даже за тёмным.
Она снова вздыхает, эхом отзываются их вздохи по всей квартире.
— Но не будь смутный, — говорит бабушка. — Спать…
Слышно, как гулко спрыгивает с подоконника Вакса.
ГЛАВА ВТОРАЯ

продолжительная,
в которой многие находятся и здесь и там, а некоторые исчезают вовсе
А также: как от многого зла откупиться можно за один талер и что воистину отпирают ключи
С участием Гидеона и Лоры
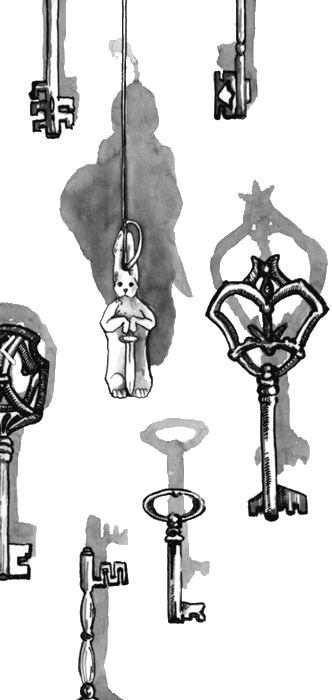
23 декабря,
четвертое воскресенье Адвента.
В этот день в венке зажигают первые три свечи и присоединяют последнюю — Ангельскую. Она означает последнее пришествие Спасителя во славе со всеми Ангелами, чтобы взять всех истинно верующих с собой на небеса…
Бабушка разбудила меня хладнокровно — включив радио на полную громкость. «Пионерская зорька!!!» — вскрикнул приемник тужась радостью. Запели горны… сон бежал.
В календаре Адвента
[27] этот день отмечен шоколадным зайцем и пакетиками польского фруктового чая.
Еще маленькая записочка на коричневой бумаге — написанная по-немецки, каким-то корявым почерком.
«Nicht die Hoffnung verlieren. Der Fuchs zieht sich zurück».
Записочку я сую в карман — переведу позже.
За окнами пасмурно, туман, порывается идти снег, но оборачивается мелким дождем; слышно, как где-то в городе звенят трамваи. Во внутреннем дворе кто-то выбивает ковёр.
Завтракаем мы с бабушкой в весёлом настроении, ничто не напоминает о сумерках и помрачении.
Снова медный кофейник на плите, кофе со сливками в больших чашках, тушёная рыба с картошкой и салат из свеклы, от которого рот становится «вампирским». После того как посуда вымыта, бабушка неожиданно торопливо говорит:
— Надо нам на Целную. Собирайся.
Меня всегда поражает бабушкина скорость в сборах. Тогда как я неторопливо натягиваю брюки, майку, свитер и шныряю под кроватью в поисках вечного эмигранта — второго носка, бабушка, полностью одетая, с сумкой через плечо, гулко топает по квартире, открывая везде форточки.
Носок приносит Вакса. В зубах. На морде у нее написано отвращение.
Цепочку я оставляю на столе около кровати.
Одетый и обутый, я выкатываюсь на балкон, галереей опоясывающий внутренний двор. Щелкает «ангельским» замком дверь за спиною.
Декабрь, мокрый снег, дождь — в общем, неуютно и мерзко. За окном, в зарослях лимонной мяты и чебреца, сидит Вакса, в ее взгляде читается торжество над мелкими людишками, вынужденно носящимися в такую погоду по гадким улицам — тогда как кошки сидят в дому, где сухо.
Бабушка цепко ухватывает меня за локоть, и мы отправляемся в путь. Гулкие удары по ковру служат нам прощальным приветом.
— Тут близко, — сказала бабушка и поправила беретку. — Незчуешься втомы
[28].
Иногда я слышу эти слова, даже сейчас, спустя три десятка лет. Слышу как бы за спиной — слева, где сердце. Слышу и иные — похожие. Осевшие на самом дне, эхо снов, тени зазеркалья. Ведь Дар не подарок.
— Вам всегда рядом, — буркнул я, — а потом и дождь, и в гору.
— Часто тылко так, — ответила она радушно. — Но бывает и радость. Когда ждешь. Чекаешь на радость?
[29] Отчего нет?
…Самой бабушке удавалось встретить радость нечасто. Разве что увидеть край плаща переменчивой Фортуны иногда — тот, где семь звезд, кометы, радуга и прочее краткое счастье. В основном приходилось довольствоваться малым, улыбаться вопреки и не искать лёгкой ноши весь длинный век.
Я совсем не помню её в унынии. И в праздности тоже.
Так повелось — все эти венки и гимны, шнуровки, перчатки, тугие косы, отчёркнутые строчки, призмы и пилигримы, — обороняют крепко.
Но не отрицаю дух. Ведь все дело в любви, или, что вероятно — в надежде, а возможно в вере или силе.
Но всего важнее в ней кажется мне — море терпения…
Внешняя сторона улицы Коперника встретила нас лужами и людьми, тянущими на плечах ёлки. Со стороны девятой школы несся табун первоклашек — все в серых кроличьих шапках. Как из-под земли выросла перед нами странная, совершенно косоглазая женщина и заявила:
— Есть малиновая рубашка на мальчика.
Потом, задумчиво осмотрев мою новенькую куртку на липучках, выдохнула:
— А также курточка!
— Малиновая также? — ядовито вопросила бабушка, не замедляя шаг.
— Не, не, не, — затараторила тетка, примеряясь к нам и мелко подпрыгивая рядом, — польская, хорошая, совсем новая.
— Носи на здоровье, — произнесла бабушка по направлению к тётке, значительно кашлянув в кулак.
— До свидания, — пискнул я, увлекаемый жилистой бабушкиной дланью.
Лавируя между лужами и ёлконосами, мы вышли на площадь, где безмолвный Мицкевич кривился на ненавистный алфавит, зеленея от вод небесных. И тут бабушка ловко вбросила меня в очередь за мандаринами — я оказался вторым. Хмурые парни разгружали фургончик, бросая ящики с твердокаменными дарами Абхазии о плиты тротуара, усатая продавщица устанавливала весы, быстро росла толпа покупателей.
Через четверть часа, чувствуя себя несколько сплющенным, я выбрался из свалки с двумя килограммами ароматных цитрусовых. Некоторые из них, правда, были, на мой взгляд, слишком молоды для того, чтобы покинуть край родимый — но, как говорят в той стороне: кисмет
[30].
Бабушка беседовала у витрины магазина со странной особой, с ног до головы одетой в зеленое, обе курили, в воздухе вокруг них пахло полынью. Стоило мне подойти, бабушкина визави глянула на меня искоса, улыбнулась и, сделав шаг в сторону… пропала, лишь слабое эхо запахов сухих трав отметило её недавнее присутствие.