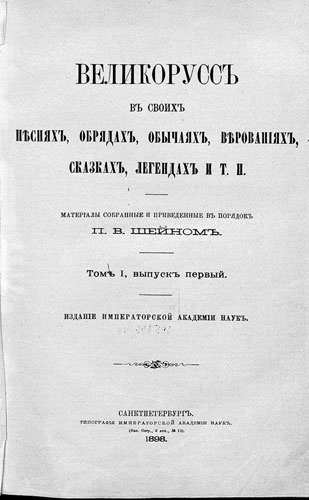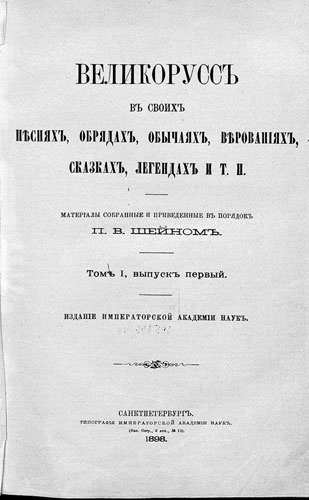
П. В. Шейн. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах… Ч. 1. Спб, 1898
И вот на седьмом десятке у Шейна рождается дочь. Девочку сразу же крестят по православному обряду. Ее баюкают под напевы русской колыбельной. Она внимает сказкам об Иване-царевиче и Илье Муромце. И очень нескоро узнает, что она дочь еврея. Да и на фотографическом портрете самого Павла Васильевича тех лет едва ли угадываются семитские черты: похоже, за долгие годы общения с крестьянами он настолько сроднился с ними, что обрел какой-то простонародный облик. Он очень напоминает мужика-великоросса средней полосы, и его окладистая борода тоже воспринимается как вполне русская, славянофильская, что ли, словно на эту русскость работает.
Последний и главный труд Шейна – «Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п.» (1898–1900). Это была такая махина, для которой, по словам собирателя, «действительно нужно было иметь «силушку звериную», «потяги держать да лошадиные», как поет народ про свою жизнь и работу». И он трудился жадно и вдохновенно. Казалось, долгожданное семейное счастье достигнуто, стало надежным, стойким и помогало напряженной работе.
Но недаром говорят, пришла беда – отворяй ворота! Все оборвалось в одночасье! Наверное, немилосердный Иегова мстит ему за отступничество! Кто еще мог наслать напасти на его «сестру милосердия», Прасковью Антиповну, Пашеньку?! «Моя бедная, трудолюбивейшая и добрейшая жена, – пишет Шейн В. Ф. Миллеру 8 февраля 1896 года, – заболела такой болезнью, которой помочь без операции невозможно… Я решительно в отчаянии, как мне с дочуркой прожить на свете… Ведь ни я, ни дочурка не можем ни шагу сделать без мамули нашей: она нас и одевает, и раздевает, и кормит, и лечит; одним словом, она все в нашей ежедневной жизни». Через некоторое время он пишет другое, полное отчаяния письмо: «Моя милая многострадальная жена с прошлой субботы находится в Евангелической больнице, и сегодня утром ей там сделали операцию весьма серьезную. Что будет с нею и что ожидает меня с дочуркой – страшно подумать. У меня голова трещит, все нервы в страшном напряжении, – плачу поминутно, как старая деревенская баба… Какие вести принесет мне завтрашний день? Уповаю на милосердие Бога, что сподобит передать ему дух мой на руках моей милой, дорогой жены и не попустит смерти подкосить мою жизнь в одиночестве, нежели окончу свой небесполезный для моих соотечественников труд».
Однако и операция не помогла. Организм Прасковьи Антиповны оказался пораженным раковыми метастазами. Ее перевезли из больницы домой, и Павел Васильевич долгие месяцы сидел у одра страдалицы-жены. Обласканный всего на несколько лет семейным уютом, он остро переживал свалившееся на него горе, скорбно ждал одиночества, но ни на минуту не оставлял мысли о труде всей своей жизни: «Уже не говоря о том, что предстоящее мне испытание, когда Богу угодно будет призвать меня к себе, убьет последнюю жизненную силу мою, которая каким-то чудом сохранилась во мне, в моем слабом организме с такою живучестью, но страдания мои душевные… высасывают всю мою кровь, сжимают мою слабую грудь до спазм, до бессонницы: не сплю до 4-х, 5-ти часов утра. А между тем меня академическая типография осаждает корректурами моего «Великорусса». Не знаю, хватит ли у меня сил для перенесения предстоящего несчастия, но мне не хотелось бы умереть раньше окончания моего сборника, на который я потратил столько лет жизни, энергии и всевозможных жертв. Для этой цели я готов, как нищий на улице, просить, клянчить у всех проходящих мимо меня и близ меня людей и приятелей, довлачить мне мою разбитую нежданно-негаданно жизнь, хоть кое-как, до окончания моего многолетнего, многострадального труда».
В феврале 1897 года Прасковья Антиповна отмучилась и покинула сей мир. «Какой тяжелый, сокрушительный удар нанесла мне судьба этой утратой, в особенности в мои годы! – воскликнул Павел Васильевич. – Страшно мне будет довлачить остаток жизни…»
А через год увидел свет первый том его «Великорусса», в коем Шейн намеревался собрать и объединить все свои многочисленные материалы, как опубликованные, так и хранившиеся в рукописях. Труд сей может быть назван энциклопедией поэтического богатства русского крестьянина. Хотя издание не завершено и в него вошел только песенный материал, но и в незаконченном виде он принадлежит к самым замечательным памятникам мировой фольклористики. В нем свыше 2500 песенных текстов из 22-х российских губерний с подробным описанием народных обрядов и обычаев. Содержание «Великорусса» богато и разнообразно. Художественное чутье и опытность помогли собирателю отобрать лучшие образцы русской народной песенной лирики. Новацией было и то, что к сборнику прилагались ноты к 17-и песням и объяснительное письмо к ним, способствовавшие полноценному восприятию народного творчества.
По словам литературоведа М. К. Азадовского, «для изучения обрядовой поэзии – это основоположный труд и один из важнейших классических сборников русского фольклора». Академик Е. Ф. Карский назвал его «выдающимся явлением великорусской этнографии». Однако, как верно заметил этнограф А. В. Марков, «Великорусс» стал «лебединой песнью неутомимого собирателя».
Шейн, однако, настойчиво продолжает свои труды, хотя им часто овладевает глубокое уныние. «И это нравственное состояние тем тяжелее для меня, – откровенничает он, – что я по два, по три дня не выхожу из дому, редко дышу свежим воздухом… Сажусь за работу, над которой сижу до поздней ночи. Эта почти механическая работа убила наповал мою личную жизнь… Опасаюсь, чтобы отчаяние… не лишило меня возможности продолжать работать над собранным, не легко обозримым и, как смею думать, ценным для науки материалом».
В другом месте он, описывая свой распорядок дня, признается: «Как только встаю, сейчас за «Новое время», затем чай…» Из сего видно, что чтение антисемитского издания А. А. Суворина настолько вошло у него в привычку, что стало своего рода ритуалом, обязательным перед чаепитием. Что искал в ультраправой газете этнический еврей Шейн? Чем могли быть ему любы погромные настроения лютых «патриотов» и шовинистов? Нет ответа. Но, помня реакционные взгляды Павла Васильевича, можно утверждать, что его жгучий интерес к «Новому времени» далеко не случаен.
Хилый и физически разбитый, Шейн направился лечиться на берег Балтийского моря, где 14 августа 1900 года окончил свой жизненный путь. Он нашел успокоение вдали от России, на немецком кладбище в Риге. Но памятник Павлу Васильевичу был сооружен там на средства и по инициативе российского Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, отдавшего дань бескорыстному служению фольклориста науке и русскому народу. И сегодня именем Павла Васильевича Шейна называют в России улицы, почетные студенческие стипендии; сведения о нем вошли во многие биографические словари и энциклопедии, причем не только литературные.
Знаменательно, однако, что хотя Шейн долгое время ничего общего со своими соплеменниками не имел, все биографы собирателя неизменно подчеркивали его еврейские корни. «Павел Васильевич Шейн, родом еврей, – писал Н. И. Костомаров, – в молодости принял христианство, не из расчета, как поступают нередко его соплеменники, а из убеждения, и с тех пор предался всею душою русскому народу, посвятив себя изучению его народности… Он исполнял свое дело с редкою страстною любовью и удивительным постоянством». «Своим свыше чем сорокалетним трудом, – вторил ему профессор Б. М. Соколов, – еврей Шейн явил достойный пример служения русскому народу и его самобытной культуре». В этом же духе высказывались ученые А. Е. Грузинский, Ф. В. Миллер, А. Н. Пыпин. И становится очевидным: Шейн, искренне принявший христианство и не только впитавший в себя русскую культуру, но и обогативший ее, был для части российской интеллигенции типом образцового, идеального еврея. Ассимиляция, русификация, отказ от иудейских ценностей и традиций, хотя не декларировались прямо, но неизменно в такой идеальный образ вписывались. Об этом, кстати, рассуждает и Василий Розанов в статье «Пестрые темы».