Далеко за прудом тоскливо свистнула одинокая птица. В воздухе запахло сырой травой и туманом.
— В твоей жизни, — сказал папа, — будет ещё много рыбы: и большой, и маленькой, и всякой.
И жареной, думаю я, и заливной, и в маринаде с морковкой и лавровым листом. И вяленной на солнце воблы. И селёдки под шубой. Будут шпроты в жестяной консервной банке и живой карп из магазина «Океан». Только ни у кого из них не будет таких золотых боков, таких красных плавников, таких умных выпуклых глаз. У меня защипало в носу, захотелось плакать, как будто я похоронила не очень дальнюю родственницу.
Всё-таки старику повезло чуть больше — он привёз домой хотя бы скелет. И большую голову с мечом вместо носа. И все рыбаки ему завидовали: как он смог победить такую рыбу.
А что осталось у нас? И что мы покажем маме?
Мама сидела на крыльце. Ждала нас и читала книгу.
Мы подошли и сели рядом.
— Ничего? — сочувственно спросила мама, заглянув в пустое ведро.
— Ты, конечно, нам не поверишь… — сказал папа.
— …но мы её всё-таки поймали, — сказала я.
И путаясь в словах и деталях, мы рассказали маме про большую рыбу и старика, про сырого тунца и бутерброды, про толстую кошку, про акул и про скелет, который остался у старика, а у нас с папой — ничегошеньки.
Мама закрыла книгу. С её обложки на нас смотрел человек в грубом свитере, с короткой бородой и трубкой в зубах.
— Так не бывает, — сказала мама, — чтобы совсем ничего. Ведь осталась история! История про рыбу.
И тут мне показалось, что Хемингуэй нам подмигнул. Хитро так сощурил левый глаз и ухмыльнулся в седую бороду. Ведь это он был на обложке. Тот писатель, которого не проходят в школе. Я его сразу узнала.
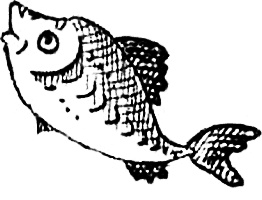
Родительский день
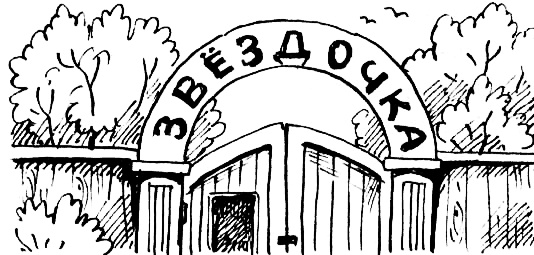
Электричка мчалась, мерно подрагивая и постукивая на стыках рельсов. В такт электричке колыхалась Митькина круглая стриженая голова, вжатая лбом в пыльное окно вагона. За окном проносились скучные ёлки, осины и заросшие камышом болота.
Митька изо всех сил косил глаза, пытаясь рассмотреть, что там впереди — в той стороне, куда так стремительно нёсся поезд, увозя его всё дальше от города. Но впереди ничего интересного не было — те же ёлки, те же болота и иногда россыпи домиков на пригорке.
«Санька с Толяном уже небось червей накопали, — завистливо думал Митька, провожая глазами тонкую извилистую речку, бежавшую наперерез поезду и незаметно исчезавшую где-то под его колёсами. — Уже небось устроились, удочки размотали… а я тут… из-за этой дуры Тайки… могла бы и без гостинцев обойтись! Как будто их там голодом морят!»
Тайка — родная Митькина сестра. И всего-то на три года младше, а хлопот и проблем с ней, как с грудным младенцем! Вот и сейчас… Митька остался на всё лето в городе — гонять с ребятами по дворам и помогать матери по хозяйству, а Тайку отправили на вторую смену в лагерь. Только Митька обрадовался, что отдохнёт от её вечного: «Мить, где ты был? Мить, ты куда? Мить, возьми меня с собой, а не то маме расскажу!» Так ведь нет же! От этой пигалицы так просто не отвертишься! Ей, оказывается, ещё и гостинцы возить в лагерь надо.
Митька с досады боднул лбом стекло. Сидевшая рядом тётенька посмотрела на него как на ненормального и на всякий случай отодвинулась подальше.
«И угораздило же мать сегодня работать! Не могла поменяться, — мысленно ворчал Митька. — Теперь вот я страдай. Я что, родитель Тайке, что ли?»
Дело в том, что сегодня как раз был родительский день. И, как назло, он совпал с маминой рабочей сменой.
— Сынок, — уговаривала Митьку мать, — ведь Тая ждать будет. Как же, ко всем ребятам приедут, а к ней нет? Ну, пожалуйста! Я и гостинцев ей собрала!
Вспомнив про гостинцы, Митька решил проверить, что же там насовала Тайке мать. Так… груша, три яблока, два апельсина… ещё конфеты… печенье… наверное, вкусное… не обожрётся эта пигалица? Как в неё, такую тощую, всё это влезет?

— Осторожно, двери закрываются, — гнусаво пробормотал репродуктор где-то под потолком вагона, — следующая станция…
Митька полез в карман и вытащил записку, где маминым круглым ровным почерком были написаны названия станции и Тайкиного злополучного лагеря.
— Твоя, мальчик, станция, — подсказала Митьке тётенька, сидевшая рядом. — Иди, готовься к выходу.
Митька подхватил сумку и стал торопливо протискиваться в сторону тамбура.
Вместе с Митькой на станции вышла куча народу. Электричка захлопнула двери, свистнула всем на прощание и через полминуты скрылась из вида.
Митька огляделся. Прямо от платформы в сторону леса уходила широкая вытоптанная дорога. Метров через сто, на опушке, от неё ответвлялась узенькая тропинка. Тропинка резко заворачивала налево, огибая деревья и теряясь где-то за склоном холма.
Митька опять достал мамину записку, в которой были указаны только станция и название лагеря. Больше ничего. Митька перевернул бумажку обратной стороной. Посмотрел её на просвет. Пусто. В какой стороне от станции находится лагерь, по какой дороге и как долго до него идти, было неизвестно. По всей видимости, мама этого не знала и рассчитывала, что Митька выяснит сам. «Язык до Киева доведёт», — любила повторять она.
Но Митька расспрашивать прохожих не захотел, а может, постеснялся. Проследив, что большая часть пассажиров направилась по широкой дороге в сторону леса, Митька решил, что именно там и находится лагерь.
Прошло уже минут двадцать, а то и все тридцать, как Митька тащился вслед навьюченным сумками и рюкзаками пассажирам электрички, а лагерь всё не показывался. Между тем Митькиных спутников становилось всё меньше и меньше. Они сворачивали на какие-то боковые дорожки, исчезали за воротами с надписью «Садовое товарищество», растворялись в перелесках. Кто-то обогнал Митьку. Кто-то безнадёжно от него отстал.

В конце концов Митька обнаружил, что остался посреди дороги совсем один. К тому же дорога, словно рогатка, внезапно разветвлялась на две части, которые убегали друг от друга в разные стороны — одна налево, другая, соответственно, направо. Прямо у основания развилки распластался здоровенный корявый пень. Митька без сил плюхнулся на него и заскучал…
— Эй, пацан! Ты что тут, спишь, что ли?

