Я не понимала, что значит «ревнует» и какое отношение это слово имеет ко мне, к Агнешке и к Таньке.

Я продолжала рассказывать Таньке про Агнешку. Танька высмеивала её письма. Я рассказывала. Танька высмеивала. Моё сердце разрывалось на части. С одной стороны была Агнешка. С другой — Танька. Я любила Агнешку и дружила с Танькой. Танька дружила со мной и терпеть не могла Агнешку.
А теперь ещё эта фотография…
— Тебе письмо, — заглянула в мою комнату мама, крутя в руках конверт. — Странное какое-то.
На письме не было ни марки, ни обратного адреса. Только мои фамилия и имя, написанные почему-то с маленькой буквы.
Я раскрыла конверт. Из него выпала фотография. На фотографии была Танька.
Она смотрела на меня в упор и щурилась от солнца. Ветер трепал её лохматые волосы и короткий сарафан. Вокруг Таньки были цветы: она стояла посреди клумбы, уперев руки в бока. А кто-то невидимый поливал сбоку клумбу, а заодно и Таньку, из шланга.
И она хохотала. И щурила глаза. И смотрела на меня в упор.
Я перевернула фотографию.
На обратной стороне кривым Танькиным почерком было накарябано:
«Я ТО ЖЕ ХЧУ БЫТЬ ТВАЕЙ ПДРУГОЙ ПО ПЕРИПИСКЕ».
Мне стало ужасно смешно. И так легко, будто я долго несла неподъёмную тяжесть и вдруг с меня её сняли.
Эх, Танька, Танька! Ну когда же она наконец выучит русский язык?

Колдунья
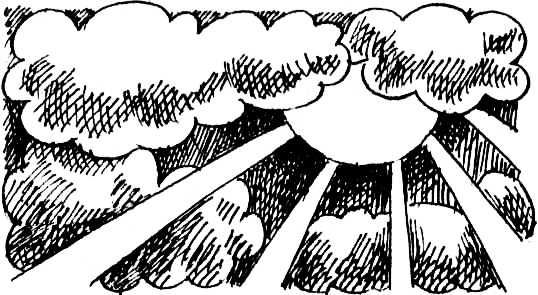
— Хр-р-р! Бр-р-р! Гр-р-р!
Нет, это просто невыносимо!
Опять Она храпит, выводит за стеной рулады:
— Хр-р-ру-у-у! Бр-р-ру-у-у! Гр-р-ру-уу!
Я стараюсь спрятаться подальше от этого страшного храпа. Зарываюсь в подушку. Накрываюсь с головой одеялом. Но и сквозь толщу гусиного пера и ватина до меня доносится:
— Хр-р-ра-а-ах! Бр-р-ра-а-ах! Гр-р-ра-а-ах!
На самом-то деле этот храп мне только чудится. Мерещится. Воображается. Этот страшный храп. Это вечное кхекание: «Кх-х-хе-е-е! Кх-х-ха-а-а! Х-х-ха-а-а!» Это чихание, кряхтение.
Ничего я не слышу. Я только представляю себе, как Она там, в своей комнате, лежит на высокой кровати с шишечками в изголовье. И храпит. И кряхтит. И переворачивается с боку на бок. И пружины воют и скрипят под её огромным телом.
С тех пор много воды утекло.
Мы тогда жили в коммуналке. Только не в такой огромной и шумной, как показывают в кино. У нас всего-то две комнаты и было. В одной я с мамой и папой. В другой — Она.
Она была огромная, как скала. Нос крючком. Над губой большая волосатая бородавка. На макушке жиденький седой пучок. Голова всегда клонится набок. В руке отполированная до блеска клюка с резиновым набалдашником. Без этой клюки Она из своей комнаты не выходила. Опиралась на неё, передвигаясь по квартире. Глухо стучала по полу: стук… стук… стук…
Я боялась её панически, до истерики, до колик в животе.
Кажется, родители тоже относились к соседке с опаской. Мама всегда здоровалась с ней чересчур вежливо, даже подобострастно, словно боялась невзначай рассердить. Папа вообще не показывал из комнаты носа, если в коридоре раздавалось: стук… стук… стук…
— А ты хоть знаешь, что твоя Кривошея — колдунья?
Я у Таньки в гостях. Мы сидим на кухне, пьём чай и грызём баранки. У Танькиных родителей своя отдельная квартира. Поэтому мы не боимся, что в коридоре вдруг раздастся это страшное: стук… стук… и появится Она, в своём застиранном халате, с этой ужасной бородавкой и неопрятным пучком.
— Какая Кривошея? — не могу взять в толк я. — И почему это она моя?
— Здра-а-асьте! — насмешливо тянет Танька и макает баранку в чай. — А чья же она, если ты с ней живёшь?
— Я-а-а-а? С Кривошеей?
До меня вдруг доходит, кого имеет в виду Танька. Я зажимаю себе двумя руками рот от этой ужасной догадки.
— Ладно прикидываться! — усмехается Танька. — Будто не знаешь, что её так все называют!
Я отрицательно мотаю головой.
— Кривошея и есть. Ходит, голову набок свесит, глазом косит.
— Тань! — говорю я почему-то шёпотом.
— Что?
— А почему она колдунья?
Танька не спеша обсасывает размокшую баранку. Потом шумно отхлёбывает горячий чай.
— Почему колдунья-то? — повторяю я вопрос.
— Так говорят.
— Кто говорит?
— Все.
— Кто все-то, Тань? — у меня ещё теплится надежда, что это опять одна из вечных Танькиных шуточек.
— Да все. Баба Зина с седьмого этажа. И тётя Надя из третьего подъезда. Я сама слышала…
Танька берёт ещё одну баранку и с хрустом раскалывает её в кулаке. Я так не умею. У меня руки слабые.
— Колдует она. Факт. Вон, баба Зина на днях молоко в палатке покупала. Принесла домой, поставила кипятить — оно свернулось.
— Ну и при чём здесь Она?
— Здра-а-асьте! Всё при том же! Баба Зина, когда домой шла, твою Кривошею встретила. Идёт, палкой стучит, по сторонам зыркает. Из-за неё это всё. Точно!
Мне неприятно, что Танька называет Кривошею «моей». Но возражать я не решаюсь.
— И тётя Надя тоже…
Танька внимательно рассматривает содержимое своего стакана и пытается выловить ложкой утонувший кусок баранки. Будто бы её совсем не интересует тема разговора. А ведь сама начала.
— Что тётя Надя-то, Тань?
— Да понесла она позавчера бельё на улицу. Сушить…
Танька наконец достала из чая осклизлую баранку и сидит теперь, изучает: то ли съесть, то ли в помойку выкинуть.
— Ну! — нетерпеливо говорю я.
— Ну развесила, прищепками прищепила.
Танька вываливает мокрую баранку на стол и берёт другую, сухую. Терпению моему приходит конец.
— Ну развесила, прищепила, дальше-то, дальше что?!
— А дальше — пришла она через два часа: прищепки на верёвке висят, а бельё по кустам и деревьям раскидано. Стала собирать — двух наволочек нет.
— А при чём тут… Кривошея? — я с трудом выдавливаю из себя это жуткое слово. — Она, что ли, бельё раскидала?

