Какая-то старуха в тулупе, проходя мимо, с ненавистью выкрикнула:
– Хулиганите! Развелось уродов!
И, стукнув клюкой об лед, щедро рассыпала по чистой до скрипа вечерней тишине несколько довольно грязных идиоматических выражений.
– Можно я в нее петардой кину? – спрашивает мальчик Вова.
Всего каких-то пять минут совместного созерцания свечей, и я уже авторитет в таких серьезных вопросах. Лестно, черт возьми!
– Нет, – говорю, – нельзя.
– Почему?
Я задумалась. Действительно, почему нельзя в злую старуху петардой?
Так и не подобрав веских возражений, говорю:
– А вдруг у нее тоже собака есть.
– Ну и ладно, – тут же смирился мальчик Вова.
А я внезапно осознала, что, пожалуй, это один из базовых принципов недеяния зла ближнему своему, даже если он с клюкой и в тулупе. Потому что где-то рядом с ним может бегать невидимая в темноте собака: маленький кудлатый пудель с развесистыми ушами или подпалая овчарка с умным лицом, которые точно ни в чем не виноваты. А достанется им.
Потом мы возвращались домой, мальчик Вова болтал ерунду, я не уступала. Когда добрались до моего подъезда, из-за угла вдруг порывистыми шагами вышел седой ветер с метлой, в два взмаха расчистил небо над нами и исчез, словно и не было.
Ночь осторожно, недоверчиво выложила сначала одну искорку. Потом вторую. Затем поверила, что можно! что больше никто не придет и не заляпает пятнами грязных мокрых туч ее отглаженные к празднику небеса! – и расточительно сыпанула сразу горсть свежих, только с мороза, отборных, крупных, как яблоки, звезд.
– Кто-то там наверху тоже зажигает бенгальские огни, – говорю лирически.

Мальчик Вова посмотрел на меня с сомнением. В глазах его читалось:
«Лишь бы петардой не долбанул».
– Пошел я, – говорит. – Вон там живу, на восьмом.
Сунул руки в карманы и зашагал по направлению к соседнему тополю, где на шестом гнездятся вороны, на втором прочно застрял старенький воздушный змей, а на самую верхушку по вторникам и четвергам залетает серо-голубое облако, курит там украдкой, пока мама не видит, возвращается к своим, и после него еще некоторое время висит едва заметный сероватый дымок.
Потом рассеивается, конечно.
Про рифмы
Видела на прогулке: девочка-веточка на каблучках (шесть утра!), в черных брючках со стрелками, с гладкими, на пробор расчесанными волосами: чистенькая, ладненькая, как деталька от «Лего». И при ней шоколадный кокер-спаниель в колтунах размером с самого спаниеля. Грязный, всклокоченный, лохматый как медведь.
А у подъезда – мужик в трениках. Сандалии на босу ногу и из них пальцы топорщатся. Рожа небритая, похмельная, майка-алкоголичка пузырем на животе надувается (шесть утра, четырнадцать градусов!) – больше ничего на нем нету, кроме сигареты в зубах.
Возле сандалий евойных сидит собака мальтезе. При взгляде на которую хочется извиниться, что небрежно расчесалась с утра. Белоснежная и отмытая десятью шампунями и восемью кондиционерами.
Если тебе дарят такие рифмы с утра пораньше, к ним обычно прилагается бонус. Мы с Патриком задержались, и бонус не замедлил себя ждать.
– Чуня, не приставай к собаке, – хмуро сказал мужик.
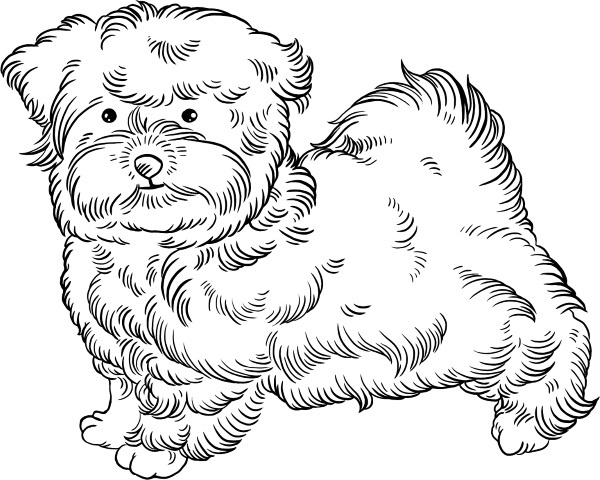
Про недопонимание
Семь утра. Двор занесен снежными барханами, гладкими и свежими, как морские волны. Из живых людей только мы с малюткой пуделем.
И вдруг навстречу мне из-за барханов появляется мужчина, навьюченный кожаным портфелем, ранцем, мешком со сменкой и пацаненком лет семи в комбинезоне до ушей. Прокладывает мальчишке тропу через заносы, пыхтя и обливаясь потом.
Поравнявшись со мной, вытаскивающей захлебнувшегося пуделя за уши из сугроба, поворачивается и скупо роняет:
– Надо было заводить хомячка!
Непроснувшейся мне в его голосе слышится отчетливая горечь.
Портфель! Сменка! Ранец! И пока до школы мелкого доведешь, сто раз на работу опоздаешь.
– Ваша жена, наверное, хотела ребенка, – сочувственно отвечаю ему, в этот момент понимая мужика как никто другой в целом мире. Я просто родник, да что там – целый благожелательный ручей прочувствованного сострадания.
И только вернувшись домой и внезапно вспомнив слегка очумелый вид мужика, осознаю, что он-то имел в виду пуделя.
Про февраль
Вернулась с прогулки.
Давно не видела такого яркого выступления. Февраль, январь и декабрь на одной сцене отрабатывают прощальный концерт и делают это с большим чувством. Снежная симфония с увертюрой поземки и вьюжной сюитой; дирижирует, как всегда, ветер.
Машины в первых рядах горбят белые спины. Ель перед подъездом возбужденно размахивает ветвями, за которые уцепилась золотистая гусеница новогодней гирлянды.
Мы с псом молча стоим перед домом, задрав головы. К симфонии добавилось представление. Маленькие океаны света вокруг фонарей исходят снежными волнами, бушуют и обрушивают в свои меловые пучины невидимые корабли и шхуны с отчаянно задранными носами.
– Чо дают-то? – тихо спрашивает пес.
– «Моби Дика», – говорю. – Кажется.
Музыка беззвучно гремит, набирает силу, ветер подгоняет оркестр все яростнее и неистовей, кордебалет давно сошел с ума и музыканты, окончательно ошалев, несутся за ним следом в пропасть безумия, исступленно терзая скрипки, альты и молящие о пощаде виолончели. Над крышами разевает пасть белый кит и накрывает город кипящей снежной волной.
Похоже, это последняя метель февраля.
Второй раз им так не сыграть.
Снова про февраль
А в ночном парке пусто и тихо, как в раю.
Куда-то исчезли все. Собачники, подростки, пенсионеры, папы с колясками, c бессмысленной целеустремленностью наматывающие по парку круг за кругом, круг за кругом.
Никого.
Только маленький худой трамвай без единого пассажира лихо катится по рельсам вниз по склону, к станции метро: как ребенок, гуляющий допоздна не потому что хочется, а потому что дома он никому не нужен.
* * *
Больше всего люблю выходить с псом рано утром. Но и вечером тоже бывает неплохо.
Небо сырое и низкое, того гляди хлестанет по лицу как мокрая простыня, растянутая на веревке через весь двор. Луна закопалась в облака, взбила их, как пуховое одеяло, и таращится.

