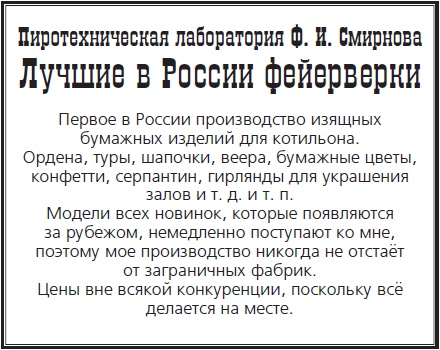Я с интересом взглянул на невзрачный дом и вспомнил, что сейчас на этом месте театр русской драмы имени Леси Украинки.
– Сколько я пережил здесь счастливых минут, – рассказывал Стороженко. – Первые успехи, первые аплодисменты, первое признание публики… И первые цирковые приключения. Помню, у фокусника Маргаретти испортился реквизит: в шкафу, где должна была исчезать ассистентка, задняя стенка отвалилась – и все увидели, как там сидит, согнувшись, бедная девушка… А впрочем, в «Гиппо-Паласе» тоже недавно, недели три назад, случилось происшествие во время гастролей Владимира Дурова, когда он показывал большое цирковое представление «Война гусей, уток, петухов и обезьян со свиньями», в котором участвовали свыше четырёхсот животных. Там был штурм и бомбардировка крепости, взрыв поезда и многое другое. Так вот, во время репетиции в пять часов дня обезьяны сбежали с арены в коридор, по лестнице спустились на первый этаж, где был кондитерский отдел Ферахзаде. Приказчик, испугавшись, убежал, а обезьяны начали такое вытворять в кондитерской, что трудно передать: разбросали все пирожные, печенье, а потом принялись бить бутылки с лимонадом. Дуров еле-еле их утихомирил.
Всё это Стороженко весело рассказывал Чаку по дороге, а теперь, подойдя к «Гиппо-Паласу», вдруг помрачнел, растерялся, стал нерешительно топтаться на месте.
Мне показалось, что он почему-то не осмеливается зайти в цирк, почему-то колеблется.
– О! – вдруг сказал он, как будто ему неожиданно пришла в голову гениальная идея. – Вы знаете, друг мой дорогой, мы с вами сейчас зайдём ещё к одному мастеру. Потрясающему мастеру. На минуту. Если уже показывать номер, то надо, чтобы было эффектно. Правда?
– Правда, – охотно согласился Чак. Он понимал волнение бывшего клоуна и сочувствовал ему.
– Это совсем близко. На Анненковской
[13], внизу. Пройдём немного по Меринговской, и всё, – Стороженко как будто оправдывался перед Чаком.
Они свернули на улицу напротив цирка.
Я её сразу узнал. Это же улица Марии Заньковецкой! Почти все дома те же, которые были и тогда. Кроме одного, разве что, в глубине, напротив улочки, которая ведёт к бывшему театру Соловцова (теперь – театр имени Ивана Франко).
Именно на этот дом и указал Стороженко Чаку, когда они проходили его.
– Здесь я тоже немного работал. В эстрадном театре «Аполло». В труппе Марморини. «Живые скульптуры». Зевсом был, Громовержцем, – горько усмехнулся он. – А потом хозяин выгнал меня. За то, что я вступился за бедную девочку из кордебалета, которую он преследовал. «И полетел божественный Зевес в гнилую лужу с голубых небес…»
Они вышли на Анненковскую, пересекли её и подошли к шестому номеру. В разукрашенной витрине первого этажа внимание привлекал яркий рекламный щит:
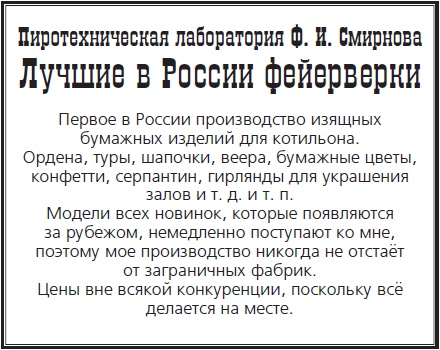
Пока я читал эту рекламу, Стороженко и Чак уже открыли дверь и зашли в лабораторию. Я едва успел вскочить, пока дверь не закрылась.
Пиротехническая лаборатория Ф. И. Смирнова имела необычный причудливо-праздничный вид. С потолка свисали яркие разноцветные бумажные гирлянды, все стены были завешены разнообразными бумажными цветами – и очень похожими на живые, и какими-то сказочными, каких, вероятно, и в природе нет.
За огромным столом, на котором возвышались кучи цветной бумаги, проволочные спирали и огромное количество каких-то причиндалов, сидел очень красивый седой мужчина с неожиданно чёрными бровями и чёрными, по-молодецки закрученными кверху усиками, в белой накрахмаленной рубашке, с галстуком-бабочкой. Он был совсем не похож на мастера.
Увидев Стороженко, Смирнов поднялся, радостно улыбаясь.
– О! Кого я вижу! Салют в честь дорогого гостя! – он схватил со стола огромную картонную конфету, за что-то дёрнул, и «конфета» оглушительно взорвалась, выбросив в воздух облако конфетти, которое разноцветным снегом посыпалось на головы Стороженко и Чака.
Потом Смирнов быстро подошёл к Стороженко и порывисто обнял его:
– Здравствуй, дорогой Пьер!
– Здравствуй, Фёдор Иванович, здравствуй!
– Где же ты пропадал? Почему исчез? Почему не появлялся?.. Ну, как дела? Как… – Смирнов быстрым взглядом окинул старенький латаный костюм Стороженко и сразу помрачнел. – Эх! Ну что же ты… Ну разве так можно? Ну…
– Всё в порядке, Фёдор, – густо покраснел клоун-неудачник. – Не волнуйся. Всё в порядке…
– О, проклятый мир, который заставляет бедствовать таких людей! О, мерзкое общество продажных душ! – взволнованно, с возмущением воскликнул Смирнов и вдруг застыл, взглянув на Чака. Видимо, только сейчас поняв, что они не одни.
– Не волнуйся, Фёдор, это свой… – успокоил его Стороженко. – Наш брат, гимназист. Вчера пришлось спасать его от полицейского сынка Слимакова.
– А-а! – приветливо улыбнулся Смирнов Чаку и протянул ему руку. – Рад познакомиться.
Чак смущённо улыбнулся, пожимая руку этому необычному человеку.
– Як тебе, Фёдор Иванович, по одному небольшому делу… – сделав над собой усилие, начал Стороженко (видимо, он был гордым и не любил ничего просить даже у друзей). Чувствуя неловкость перед Чаком, он обнял Смирнова за плечи и потихоньку, почти шёпотом, начал ему что-то объяснять.
– О чём речь! Нет вопросов! – воскликнул Смирнов и забегал по лаборатории, выискивая какие-то картонные коробочки, трубочки, пакеты.
– Вот возьми! Вот… Вот… – приговаривал он каждый раз, протягивая Стороженко какую-то вещь. – С этим осторожно: взрывается при малейшем нажатии в этом месте…
– Спасибо… Спасибо… Спасибо… – кивал головой Стороженко. – Я, Фёдор, отблагодарю тебя когда-нибудь, поверь мне…
– Перестань! Это я в неоплатном долгу перед тобой. За радость, которую приносил мне твой талант. Что может быть радостнее настоящего весёлого искреннего смеха! Самая человеческая радость из всех радостей людских. «Дав человеку власть над всем и всеми, смеяться лишь ему позволил Бог», – сказал Ронсар. Поэтому не обижай меня, друг…
Когда они вышли на улицу, Стороженко сказал Чаку:
– Замечательный человек! На «Арсенале» работал. В 1905 году принимал участие в рабочем восстании,
Шулявской республике; жил он тогда в Марийском переулке… После этого на «Арсенал» уже возврата не было. Увлёкся пиротехникой, и вот… Мастер исключительный. Ювелир. Виртуоз. Я его ещё с детства знаю. Жили рядом…
Я внимательно присмотрелся к Стороженко и только тогда увидел, что он уже далеко не молод, что ему лет за сорок, по-видимому.
Подойдя к цирку, он опять в нерешительности начал топтаться на месте, то ли размышляя, то ли не решаясь идти дальше. Наконец вздохнул и сказал Чаку:
– Знаете… знаете… я вот о чём вас попрошу. Вы, друг мой, возьмите эту коробку, подойдите к швейцару и скажите, что вы… что это шляпка… для мадемуазель Терезы… Запомнили? Что ваша матушка просила передать её мадемуазель Терезе. Только в собственные руки, непременно в собственные руки… только… Понимаете?