Помолчали. Каждая думала о своем.
Горшенина с сомнением молвила:
– Даже если перед великим вечем за нас будут три конца, что мой Ондрюша против Аникиты Ананьина? Будто кочет против ястреба. Сильный у Марфы избранщик. А мой муженек, сама знаешь, только с виду красен…
Теперь, пожалуй, можно было союзницу посвятить и дальше в замысел. Настасья, усмехнувшись, сказала:
– Не робей. Ястреб к тому времени будет сильно пощипанный. Мы против него в Неревском конце «погремца» запустим.
Когда в упряжке из двух лошадей одна попадется злая – грызет, лягает соседку, сбоку на оглобле вешают трещотку, называется «погремец». На бегу он гремит, и норовистая лошадь пугается, голову отворачивает. Не до грызни ей, да и бежит спорее.
В премудрости же новгородских выборов «погремцом» называли выдвиженца, запускаемого в чужой конец. Не для того, чтоб победил, а чтоб расколол вражеский лагерь, замутил воду, науськал одну улицу на другую, замотал-захулил соперника. Часто бывало, что брань и ругань между своими после этого не стихали до великих выборов, когда про «погремца» все давно уже позабыли, и тогда кончане голосовали не заедино, а врозь, многие предпочитали чужого избранщика своему. Игра в «погремца» – дело тонкое, хитрое. Большого искусства требует.
– Где ж ты такого трескучего «погремца» возьмешь, чтобы потрепал Аникиту Ананьина в Неревском конце, насплошь Марфином?
– Есть один на примете, – уклончиво молвила Каменная. – Мой Изосим всюду сует свой серебряный нос, принюхивается, приглядывается. Присмотрел кое-кого. Как раз для такого дела.
– Кого? – с любопытством спросила Ефимия.
– Завтра скажу. Если сладится.
– Ладно. Облей меня из кувшина, молоко смыть. Да разбавь кипяток, обожжешь! Служанка из тебя, Настасьюшка, как из коровы скакун.
Встала в купели – ладная, крепкая, белокожая, будто разрезанная редька.
– Чародействуешь ты что ли? – поразилась Григориева, поливая из серебряного кувшина. – И время тебя не берет.
– Я бы почародействовала, если б научил кто. Нет, старею я. – Ефимия потрогала грудь. – Перси, вишь, книзу тянутся.
– У меня таких и в двадцать лет не было. Как Юрашу выкормила, повисли козьим выменем.
– А не надо было самой. Мы чай не козы, а боярыни.
– Незачем мне было беречься, – дернула углом рта Настасья. – И не для кого.
Вытирая волосы полотенцем, Горшенина пытливо посмотрела ей в глаза.
– Я тебя, Настасья, почти тридцать лет знаю. Всякой видала. Но такой, как нынче, – никогда. Лицо у тебя какое-то… Будто двухслойное. Верхний слой мне знаком: зыркаешь волчицей, которая унюхала овечье стадо. Перед большой сшибкой у тебя всегда такие глаза. Но есть еще что-то, глубже. На тебя непохожее. Огоньки какие-то. Словно радуешься чему-то, но не так, как всегда, а без злобы.
– Я что – если радуюсь, то всегда со злобой? – удивилась Каменная.
– Да. И только, когда победишь кого-нибудь. А тут что-то другое. Ну-ка, говори, что у тебя за радость?
Настасья такой проницательности не очень удивилась. Ефимия только прикидывается пустомелей, а глаз у нее въедливый.
– Внучка у меня будет. Или внук. Понесла Олена от Юраши. Три месяца уже.
Шелковая взвизгнула, кинулась подруге на шею, обдав запахом молока и ароматных трав.
На голубых ясных глазах выступили слезы – они у Ефимии всегда были близко.
– Вот оно, что в жизни-то главное! Прочее – пыль на ветру! Ах, рада я за тебя! Как рада!
– Да. – Настасья плакать не умела, да и улыбаться не очень, поэтому лицо у нее будто заколыхалось. – Есть для кого постараться. И жить мне теперь надо долго. Лет двадцать еще, а хорошо бы и двадцать пять.
– Поживем, – уверенно сказала Горшенина. – Мы, новгородки, до жизни цепкие.

Погремец
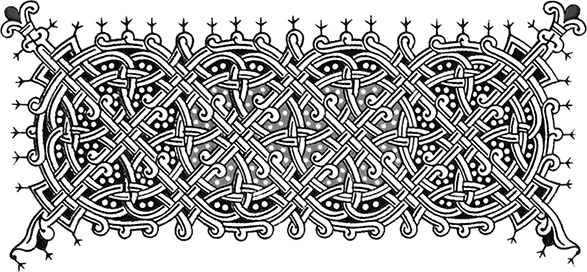
В воскресный августовский заполдень, когда небо сочится тягучим медовым зноем, горячий воздух неподвижен, а пыль искриста, Новгород словно засыпает. В Божий день торгуют только утром, потом – грех. Все уже отстояли обедню, потрапезничали и до предвечерней прохлады разлеглись по лавкам.
В окрестностях великого города и вовсе сонное царство. Дороги опустели, заполья – пригородные посады – затихают. В эту жаркую пору не жужжат даже пчелы, не щебечут птицы, лишь гулко стрекочут бессчетные цикады.
Вода в полувысохшей речушке почти не журчала. Захару показалось, что и колесо старой мельницы перестало крутиться, потому что решило вздремнуть, хоть он знал, что мельня давно заброшена.
Сидели в кустах, укрытые от солнца плотной тенью, но Захара бросало в пот. Он не любил непонятного, тревожился, а тут было непонятно всё: чего ради явились в это глухое место, почему беззвучно крались, зачем засели в кустах и отчего нельзя слово молвить? Чуднее всего, что сама госпожа Настасья здесь. Тоже молчит, не шелохнется. А спросить – у боярыни боязно, у серебряной морды – того страшней.
Изосим ладно, он человек змеиный, потаенный, но как понять Юрьевну? Великая жена, первейшая особа на весь Новгород, а сидит в пустой роще, на кортках, словно простая баба-селянка, и давно, целый час уже. Чего ждем-то?
Сказала только: «Пойдем со мной, Захар Климентьевич. Понадобишься».
Он ей с готовностью: «Куда, госпожа? Что велишь делать?»
Она в ответ коротко: «Куда – увидишь. А делать тебе ничего не надо, просто гляди в оба».
Значит, теперь он будет «Климентьевич», поди ж ты. Едва привык зваться фамилией – Попенок, по родителю-покойнику, а тут еще к отчеству привыкай. Давно ли был Захаркой, стольничьим отроком, у всех на побегушках, а ныне избранщик от Славенского конца в степенные посадники! Господи, не сон ли?
Ну и жизнь – будто шальной конь, который понес вскачь, не разбирая дороги. И не остановишь, и не соскочишь – знай, крепко держись за гриву, из седла не сверзнись.
Главное, как это боярыне можно в такое лихое время быть сам-третьей, в безлюдном месте? А если марфинские прознают? Сейчас, когда началась выборная схватка и сцепились большущие волчицы, всякое возможно. Исчезни безвестно Настасья Григориева – и драке конец. А кто при ней был, про тех и не вспомнят. Сейчас, даже перемещаясь по городу, хозяйка оберегала себя оружными людьми – и вдруг отправилась зачем-то в темную запусть. Ох, нехорошо…
Один только раз шепотом боярыня спросила Изосима:
– А этот-то где? Явился?
– Куда ж он денется? – засвистел страшный человек из-под маски. – Еще ночью доносец кинули, открыли дураку глаза. Засел, ждет. Ты глянь хорошенько. Сарайчик, окошко.

