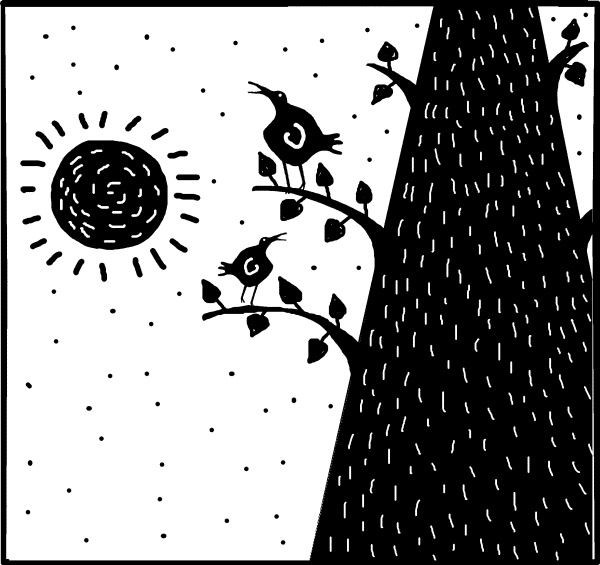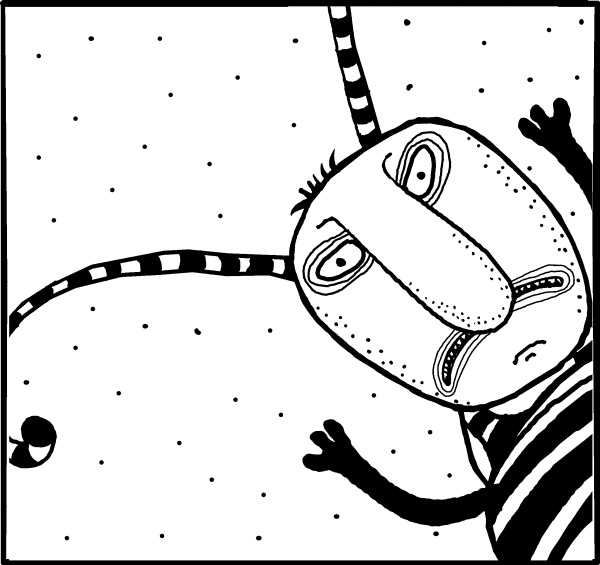* * *

Однажды мой папенька встретил на улице футбольную команду и уважать себя принудил.
За забором паровозного депо мужики гоняли мяч. Машинисты против кочегаров. Папенька и в трезвом виде был неравнодушный человек. А выпимши становился липуч, как свидетель Иеговы.
Вбежал на поле, стал преподавать дриблинг, насильно. Присутствующие захотели остаться неучёными. Тогда папан назвал их «козлы», «рванина» и «женская сборная по бадминтону». Футболисты ответили нестройным матом.
Главными изъянами папеньки были находчивость и смелость.
По его прикидкам, в одиночку навалять небольшой футбольной команде совсем не сложно, если точно всё рассчитать.
Он вышел к воротам и врезал вратарю ботинком по ноге. Для затравки. За папой стали гоняться, конечно.
Всё шло по плану. Он бегал кругами, самых резвых догоняльщиков разил кулаком с развороту на встречном курсе. Минуты три он был как Иван Кожедуб, а футболисты – как фашисты на «мессершмиттах».
Враг нёс потери. Искусно маневрируя, папа сбил четверых, одного ранил в бензобак.
Если бы всё получилось, когда-нибудь про этот подвиг сняли бы фильм с названием – «1 спартанец».
Но железнодорожники попались хитрые, догадались, что небольшой командой можно навалять даже Кожедубу, если хором.
Перестроились в греческую фалангу (конница по бокам), и после некоторых перестроений они стали теснить папеньку бутсами по попе и выше.
Тятя бросился из окружения в сирень и там залёг. Он решил переждать.
– Ногой в кустах не размахнуться, а руками они драться не умеют, – гордился он, показывая потом спину. Спина была похожа на огромный баклажан.
На следующий день на встрече в милиции футболисты казались сборной по панкратиону – у кого глаз заплыл куриной попочкой, у кого скула примотана скотчем.
Пятнадцать суток папе не дали, потому что приговор «за драку с футбольной командой паровозного депо» показался лейтенанту неумеренно льстивым.
После батальи, говорят, папенька форсил перед друзями: приходил к стадиону, запрыгивал на забор и орал «Э-ге-гей!»
Всем нравилось смотреть, как кочегары бросают беготню, послушно перестраиваются – конница на фланги – и смотрят на забор грустными персидскими глазами.
А если вы не верите этой правдивой истории, значит, вы не знакомы с моим папенькой.
* * *
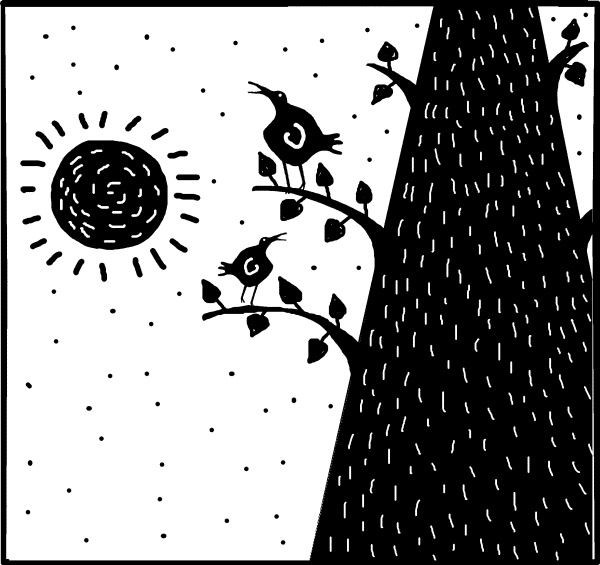
Когда чей-нибудь последний путь надо расцветить Шопеном, в военном оркестре говорят «играть жмура».
В окружном оркестре служат, в основном, сверхсрочники.
Призывников в окружной оркестр берут только на всякие позорные инструменты – тарелки и большой барабан с колотушкой. Барабанщика причём выбирают маленького, так смешней. Издалека он должен быть похож на очень беременного солдата. Таковы требования военного юмора.
В нашем оркестре был ещё третий срочник, играл на секунде – здоровенная труба, одевается на человека сверху. Её партию в печатном виде не пересказать – это «пук-пук» сиплым баритоном.
Был май. Птицы исполняли Бетховена, трепетные вербы тянули к солнцу зелёные ладошки, и не выпить перед выступлением за такую даль и синь было нельзя. Кто-то выкатил красный вермут, привычный яд. И музыканты все были опытные – но почему-то все полегли. Как дети, ей-богу. Даже самогон на стиральном порошке не давал такого блестящего эффекта.
…Начало церемонии отстояли шалашиком. А как колонна поехала, стали падать. Путь за катафалком блистал отдельно лежащими трубами, фаготами и телами горестных оркестрантов.
Дольше прочих держался кларнет. Падая, он попал своей дудкой в карман барабанщику и так доехал почти до нужной могилы. Рухнул в ста метрах каких-то.
Трубач потом вспоминал, что остановился продуть мундштук, тут на него прыгнуло дерево и заслонило белый свет.
Сильной личностью оказался валторнист. Он маршировал со всеми по дороге, и вдруг обнаружил себя посреди природы, в каких-то праздничных кустах. Где-то за ветвями отдувались и падали друзья, а тут сгрудились трепетные вербы и ещё птицы со своим Бетховеном. Пробиться к товарищам было нереально. Валторнист лёг в укрытие и стал исполнять военный долг лёжа.
– Как красиво играет в лесу валторна, – сказал чуткий к прекрасному барабанщик.
Звук военного оркестра, поначалу сочный и породистый, мутировал в еврейскую свадьбу. Солировала ритм-секция. Поскольку срочникам не наливали, до кладбища доползли только трезвые тарелки, барабан и секунда, которая «пук-пук».
После всех слов, после прощального салюта выжившим предстояло с помощью лишь тарелок и барабана изобразить гимн. И ещё этим, пук-пуком.
Тысяча офицеров в праздничном убранстве взяли под козырёк, командующий сделал патриотическое лицо, остальные зажмурились.
– Бдых! – сказал барабан.
– Апчхи! – удивились тарелки.
– Пук-пук, – застеснялась секунда.
Потом ещё играли торжественный марш, что после Гимна совсем не страшно оказалось.
* * *
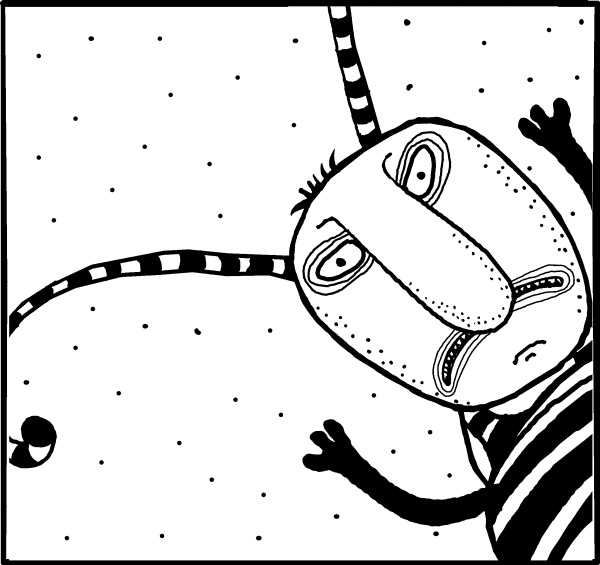
Однажды усядусь писать. Стану вскидывать над компьютером руки, как какой-нибудь Прокофьев. Буду молотить по буквам много и вдохновенно.
И конечно же, разбогатею.
Напишу, как к нам в кватиру пришли блохи, много. Глазам их не видно, но по ощущениям – несколько дивизий.
Расскажу про длинную линейку для чесаний – мы передаём её из рук в руки и очень любим.
Напишу про Лялин атеизм. Ляля не верит в невидимое, в блох тоже. Про укусы говорит, это Владислав покусал, вражеский ребёнок в саду, Владислав там всех кусает.
И добавляет сентенциозно:
– Владислав – свинья!
Ляля считает, меня покусал тоже Вадислав. И Люсю.
Мне-то что, я привычный, а Люсю ревную.
Никому не прощу укусы Люси в те места, чьих названий не скажу, но которые очень мне дороги.
Поймаю Владислава – оторву хоботок.
…Люся копит на Египет, живёт на трёх своих работах, я чувствую себя акулой большого секса на планктонной диете.
Устроился играть в театр. Много репетирую.
Два раза выхожу там на балкон с гитарой (это самое вдохновенное место в спектакле).