Cтраница 1
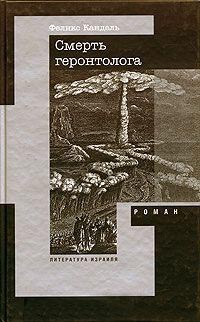
Часть первая
ДОМ НА ОБРЫВЕ
1
Улица затаилась посреди строений своей неотличимостью и секретов чужим не раскрывает.
С улицы это выглядит как обычный дом‚ каких немало в округе: один подъезд‚ пять этажей‚ дождевые подтёки на каменной кладке‚ заброшенный газон на входе.
Дом был когда-то новым‚ жильцы помоложе‚ заботы помельче‚ врата надежды поскрипывали‚ казалось‚ неподалеку‚ приманивая обещанием‚ спасение – запоздавшей росой – готовилось оживить травы‚ однако газон во все времена оставался общим‚ а оттого он ничей‚ оттого неухожен. С развёрстого мусорного хранилища‚ что приткнулось у тротуара‚ ветром заносит на газон пластиковые мешочки‚ которые живут вечно и не уходят в перегной. Мешочки пакостно шуршат на деревьях‚ будто сговариваются на очередное непотребство‚ запутываются в цеплючей жимолости‚ по утрам‚ от обильной росы‚ покорно распластываются у подъезда‚ а через них перешагивают‚ чтобы не поскользнуться. Но природа сильна и способна на многое – лишь бы ей не мешали. Розы буйствуют на газоне‚ расплескивая без корысти лепестковую свою красоту. Жимолость завивает ржавую ограду и дурманит ароматами. Гранатовое дерево исправно цветет и плодоносит‚ а крупные‚ темно-бордовые гранаты лопаются на ветвях от мощной своей переспелости‚ нехотя опадают на землю. По кромке газона строем лезут наружу непородные нарциссы‚ потомки чудесных созданий‚ которых привезли из-за моря в дар этому городу. Потомки выродившихся потомков.
Через дорогу располагается лавочка Лёвы Блюма‚ который знает каждого жильца в этом доме‚ потому что все должны ему и все записаны в его книге. Почти все. Блюм обладает благородством души и долги не требует до конца месяца‚ а с некоторых еще неделю‚ ибо народ по соседству живет небогатый. К благородству примешивается и расчет‚ так как покупатели могут пойти за угол‚ в лавочку к Мордехаю Шимони‚ тоже получить в долг. Когда никого нет‚ – а это случается частенько‚ – Блюм сидит на стуле у дверей и оглядывает дом напротив‚ с первого до последнего его этажа. Редкие мысли‚ как дымка на небе‚ неспешно проплывают в голове‚ не оставляя тени и не орошая благодатным дождем. Чудится Лёве заснеженная опушка редкого ельника‚ видится Лёве смытый силуэт вдалеке ангелом-охранителем‚ слышится крик в промозглой ночи – остережением и спасением.
Броня Блюм‚ жена Лёвы‚ сидит у окна на первом этаже‚ глядит на мужа изо дня в день‚ из года в год. Лёва стареет на ее глазах‚ плешивеет‚ припудривается пылью‚ морщины прокладывают по лицу траншеи с ходами сообщений‚ будто к старости он пытается от кого-то оборониться. Видится Броне трюм крохотного суденышка‚ досчатые занозистые нары‚ юноша во мраке‚ склонившийся над ней‚ узкобёдрый и жаднорукий. Юноша ищет тепло‚ самую его малость‚ после стужи тех ужасов отогревается в женских объятиях. Чудится Броне покачивание на нарах‚ как покачивание на волнах‚ пугающее падение в бездны с восторженным взлетом под облака‚ первая боль с первым облегчением – не пережить заново. К полуденной молитве Броня приходит в лавочку‚ осторожно переступая опухшими за жизнь ногами‚ занимает место за прилавком‚ а Лёва идет в синагогу на соседнюю улицу. Десяти человек обычно не набирается‚ и Блюм встает в дверях‚ чтобы зазвать на молитву прохожего мужчину старше тринадцати лет. Он зазывает молча‚ одним взглядом‚ и устоять невозможно. У соседней синагоги‚ неподалеку‚ встает Мордехай Шимони‚ его конкурент‚ у которого тоже не набирается десяти человек‚ – он тоже зазывает взглядом. Порой Лёве кажется: там‚ наверху‚ не принимают его молитвы и возвращают обратно на осмысление и доработку. Порой это кажется Шимони.
На втором этаже‚ над головой Брони‚ располагается единственный на весь дом балкон. На балконе стоит мангал. В мангале тлеет вечный огонь. В квартире живет нервный Ицик‚ владелец некрупного дела "Куплю всё и продам всё" – с ограниченной ответственностью и без покоя в душе. По утрам Ицик выходит из дома‚ как на битву‚ выкатывает на машине словно на тропу войны‚ гудя в ярости на замешкавшегося водителя‚ проскакивая под последнее отчаянное мигание желтоглазого светофора‚ и на шоссе не уступает никому. Раз уступишь‚ два уступишь – и отстанешь‚ и не догонишь‚ и затолкают‚ в характере‚ не дай Бог‚ отпечатается уступчивость‚ а от уступчивости ему смерть. Нервный Ицик не может этого допустить и вечный в душе страх заглушает наглостью на дороге и в жизни. Дед Ицика‚ праведный Менаше‚ говаривал частенько: "Распознайте испытания ваши"‚ – но как это сделать на скорости? Ответ может быть таков: притормози и осмотрись. Но возможен и иной ответ‚ если он вообще существует. Ицик начинал жизнь с мотоцикла‚ шустрого и увертливого‚ постепенно наливаясь плотью и беспокойством. Нервный Ицик перепробовал много дел: продавал семечки с фисташками‚ чистил ковры‚ развозил по домам минеральную воду‚ держал лавку с вывеской, на которой ивритскими буквами было написано "Бест маркет"‚ и теперешняя его коммерция не из последних. По вечерам Ицик жаждет покоя и расслабления от дневных боев‚ а потому оголяет волосатую грудь‚ вываливает живот поверх пестрых трусов‚ раздувает огонь в мангале и жарит на балконе бифштексы‚ жарит куриные ножки‚ печенку‚ пупки‚ крылышки и кебаб‚ – всё жарит‚ что румянится и шкворчит на углях и подъедается потом без остатка дружной супружеской парой. Жирные мясные запахи поднимаются кверху и обволакивают дом. Соседи сходят с ума. Но нервный Ицик пристроил балкон именно для этой цели и уступать не желает. Балкон громоздится от земли на рахитичных бетонных подпорках‚ и если бы это увидел архитектор‚ душу вложивший в проект‚ его бы хватила кондрашка.
На третьем этаже‚ над Ициком‚ пустует квартира‚ в которой практиковал Цви Сасон‚ врач-геронтолог. К нему приезжали со всего города. Про него рассказывали чудеса. Он укреплял слабосильных и поднимал расслабленных. На Сасона надеялись‚ – сначала‚ конечно‚ на Господа‚ а уж потом на него‚ – в Сасона верили все старики по округе и копили деньги на визит. Старость что детство‚ старики – малые дети‚ но никто не желает с ними играть. А у Сасона они с упоением играли в увлекательные игры‚ что подбавляло удовольствия и продлевало годы. Старики входили в подъезд усталой вереницей‚ шаркая изношенными за пенсию подошвами‚ а выходили с огнем в глазу‚ молодецки подрагивая мышцей ноги‚ на радостях покупали банку пива: Лёве Блюму некрупный‚ но верный доход. Геронтолог Сасон подвел стариков неожиданно‚ врасплох‚ в цветущем еще возрасте‚ подключенный к машине искусственного дыхания‚ и сокрушилась духом дряхлая клиентура – нет рецепта от неизбежного‚ по очереди стала умирать. А квартира стоит пустой‚ тягостным напоминанием; приходят порой несведущие клиенты‚ звонят в дверь‚ но ответа им не дождаться‚ и возвращаться назад недостаёт сил. "Знай такое дело‚ – сказал один из них‚ – я бы иначе состарился..."
На четвертом этаже‚ над пустующей квартирой‚ проглядывает в окне печальный женский профиль. Там живет неприметная Авива‚ подобная увядающей траве на склоне‚ которая в свободное от работы время населяет собственное одиночество. Это она выдумала себе жениха‚ отправила его за алмазами в Африку‚ писала туда письма‚ получала ответы и пересказывала их Ривке‚ лучшей своей подруге‚ а та слушала‚ не перебивала‚ думая лишь о том‚ как же Авива вывернется‚ когда жениху подойдет срок возвращаться. За месяц до его приезда Авива села на диету и спустила двадцать килограммов. За день до его прилета она явилась к подруге зарёванная и несчастная: упал вертолет‚ и жених разбился. "Поторопила свое счастье‚ – сказала Ривка. – Зачем было ему прилетать? Сидел бы себе в Африке‚ искал алмазы‚ писал тебе письма..." Авива отгоревала безутешно пару месяцев‚ в слезах набрала новые двадцать килограммов‚ а потом у нее объявился друг-моряк‚ которого она отправила в плавание в бурный‚ коварный океан‚ и Ривка ждет со дня на день‚ когда этот моряк сгинет в морских пучинах. Авиве уже под сорок. Она ведет себя неприметно‚ одевается неярко‚ ходит по стеночке‚ садится с краешка‚ но в ней накоплено столько нерастраченных желаний‚ что это ощущается с расстояния‚ как потрескивание мощного электрического заряда‚ и подруги на всякий случай оберегают своих мужей. Одиночество – это звон в ушах от тишины. Одиночество – когда не с кем поссориться. Авива бродит по квартире в полноте желаний‚ являя в окне скорбный силуэт. По дивану на цыпочках гуляет кот невозможной аметистовой красоты‚ будто рисованный пастелью‚ невозможных телодвижений‚ будто на уроке в балетном классе‚ изумрудными зрачками‚ сквозь приспущенные пепельные веки неотрывно смотрит на клетку. Кота зовут Хумус. В клетке дремлет на жердочке разноцветный попугай: один глаз закрыт‚ другой следит за котом. Попугая зовут Сумсум. Когда приходил гость‚ Сумсум‚ бывало‚ пробуждался‚ орал с жердочки: "Открой клетку... Открой клетку... Ну открой‚ дур-рак!" Был взрыв на улице. И были жертвы. Разлетевшиеся на стороны‚ неопознаваемые части того‚ что дышало минуту назад‚ улыбалось‚ ело с удовольствием мороженое. Мужчины в черных одеяниях – пейсы заложены за уши – собирали останки до последней кровавой крошечки‚ промокали туалетной бумагой‚ складывали в пластиковые пакеты‚ чтобы похоронить с честью. Авива увидела по телевизору ту кровь‚ слезы‚ обмороки на кладбищах; Хумус увидел вместе с ней‚ не проявив интереса в ледяной кошачьей обособленности‚ и Сумсум‚ конечно‚ углядел тот ужас‚ отчего испугался и замолчал. Авива понесла его к ветеринару‚ а он сказал: "Я прошел три войны. Горел в танке. Подрывался на мине. Хоронил друзей. А после взрыва – руки дрожали: сын был на той улице. Мог быть. На той улице и в то время. Что же ты хочешь от птицы!.." Поболтать теперь не с кем‚ и Авива часами думает сосредоточенно‚ наморщив лоб‚ говорит вдруг: "Если тебе клялись когда-то‚ с пылом‚ с любовью‚ а потом охладели‚ – что за беда? Клялись искренне в тот момент‚ с желанием выполнить клятву‚ а это главное..." А кто клялся и кто охладел – неизвестно.

