Мы — те, кто стоял в кругу, — взялись за руки и стали кружиться, изображая веселье избранных. Потом все уселись на места, и я стала раздавать конфеты. Я доставала из одного пакетика шоколадного «Мишку», а из другого — две карамельки и клала на парты. Каждому — по три конфетки. А Марсём мне помогала и время от времени говорила: «Подсластите жизнь в честь именинницы!» Но на меня не смотрела, и голос ее был чужим, дежурным. А во мне все росла и росла ужасная пустота. Такая черная дыра, в которой безвозвратно может исчезнуть целый космос. И еще я думала, что сейчас подойду к Пете. Я ведь должна дать ему «Мишку» и две карамельки. Я быстро положу их на парту и пойду дальше.
Марсём вдруг остановилась и озабоченно взглянула на часы.
— Что-то мы сегодня затянули — с нашим «Караваем»! В столовой стынет завтрак. Петруша, будь добр, сходи в разведку, посмотри, как там обстоят дела. А Настя тебе поможет.
Петя кивнул, встал и вышел. А следом за ним — Настя. И еще вышел Егор. Он уже получил свои конфеты и вызвался помочь разложить завтрак. Ему было скучно сидеть, и он ни о чем не догадывался. Он не знал, что я хотела его выбрать.
Вокруг уже галдели и шуршали фантиками, не имея терпения сохранить конфеты до завтрака. Я отдала оставшееся в пакетиках Марсём и села за парту.
Все стали строиться, чтобы идти в столовую, но меня вдруг приковало к месту. Что-то тяжелое, неправильное, несправедливое. Оно касалось не «Каравая», не Пети, не случайно выбранного Жорика. Оно касалось всего вместе, всего мироздания, этой неправильной цепочки событий, которые мойра, не думая, связала между собой — узелок к узелку.
— Маргарита Семеновна! А Алина плачет!
Марсём услала меня до конца уроков — поливать цветы в актовом зале. И позвонила дедушке — чтобы он приехал за мной пораньше. А потом позвонила еще раз, вечером.
После этого мама и дедушка стали обсуждать со мной день рождения, кого бы я хотела пригласить к себе в гости. Я никого не хотела приглашать. Но мама сказала, это не дело. Дети должны радоваться дню рождения. Они всегда ждут этого праздника, ждут подарков. Это закон. По-другому не бывает. «И я прошу тебя позвонить Пете, — сказала мама. — Он, наверное, расстроился, что ты не выбрала его во время игры. А он такой хороший мальчик. К тому же ему пришлось много выстрадать. Надо быть великодушной, Алиночка». И дедушка кивнул, соглашаясь. Что надо быть великодушной. Хотя ничего не сказал. Даже про бабушку не стал рассказывать. Но он был грустным. Марсём рассказала, что я плакала. И от этого дедушка грустил. Он всегда грустил и тревожился, если я плачу.
Я позвонила Пете. Трубку взяла Петина бабушка.
— Вот видишь, Петруша, звонит Алиночка! А ты переживал!
Я сказала, что буду ждать Петю завтра, в субботу. Я буду очень рада его видеть, потому что он — мой самый лучший друг. Петя спросил:
— А Жорик? Жорик будет?
Я сказала, нет, не будет. Потому что Жорику нравится Вера. А Веру я не приглашаю. Не хочу приглашать. Я приглашу Наташку и большую Настю. И еще Егора. Петя вздохнул и сказал, что придет. Обязательно придет. И пришел. Дедушка тогда показал ему корабли в энциклопедии и подарил порошок для заживления ранок. А Егор не пришел, потому что у него в тот день были соревнования по плаванию. Это были отборочные соревнования, и он не мог их пропустить.
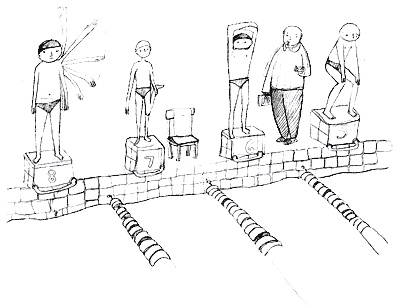
22
— Алиночка! Надо быть великодушной!
Я рассердилась: и зачем мама это повторяет? Что они все ко мне привязались? Пусть сами выбирают своего Петю, если он им так нравится. А мне нечего указывать. Записались тут в командиры. И с кем мне дружить — знают, и кого на день рождения приглашать, и сколько пирожков в гостях у Петиной бабушки съедать…
— Сама будь великодушной! — я швырнула рюкзак в угол, прошла к себе в комнату, нацепила наушники и влезла с ногами на диван.
— Что ты имеешь в виду? — мама смотрела на меня испуганно.
Прежде, чем врубить музыку, я буркнула:
— Сама знаешь, что.
Я даже не знаю, почему я так сказала. Просто у меня было плохое настроение. Не особенно плохое, а так. Когда чувствуешь, что все достали.
Но что-то произошло. С мамой. Она еще немного постояла — посмотрела, как мне ни до чего нет дела, как я слушаю музыку, — и пошла на кухню, мыть посуду. Она в тот день долго мыла посуду. Терла плиту, и раковину, и кафель вокруг раковины. Я уже кончила слушать музыку, а она все терла. Потом стала тихонько напевать. А перед сном пришла посидеть со мной, у кровати. Будто я маленькая. И мне сначала хотелось заплакать, а потом обнять ее крепко-крепко, прижаться к ней и никогда не отрываться. Я так и уснула, держа ее за руку.
И когда вдруг пришел В.Г., я никак не связала его появление с тем вечером. С тем, как мама на меня смотрела, когда я сказала: «Сама будь великодушной!»
Я открыла дверь. В.Г. вошел не сразу, не как всегда. Он помедлил на пороге — такой нарядный, белая рубашка, черный пиджак, — с розой в руках. А еще у В.Г. был галстук. Последний раз я видела его в галстуке на балу. Хотя нет: тогда у него была бабочка.
— Здравствуй! Мама дома?
— Здравствуйте, Владимир Григорьевич! — я обрадовалась. Я же всегда радовалась, когда он приходил — веселый и душистый, с пакетом винограда или с каким-нибудь небывалым тортом, украшенным фруктами. Я с готовностью сообщила, что мама дома. И дедушка дома. Мы все сегодня дома. Вот какой сюрприз!
— Да-да, конечно.
В.Г. неуверенно переступил порог, и роза качнула своей неправдоподобно крупной, красной головой. Она была закутана во множество прозрачных оберток с золотыми краешками. Обертки запотели и покрылись капельками: словно роза, прятавшаяся внутри, хотела уберечь себя от мороза частым дыханием. Я глядела на В.Г. с изумлением: он что — волнуется?
— Мама, Владимир Григорьевич пришел!
Мама появилась в дверях — и тоже показалась мне странной. Будто она перестала быть самой собой, а сделалась какая-то стеклянная и ужасно неловкая. Как какая-нибудь фарфоровая куколка из сказки.
— Оля, я получил валентинку, — В.Г. говорил приглушенно и не сводил с мамы глаз.
— С этой почтой ничего невозможно рассчитать. До праздника еще больше недели.
— Мне кажется, это не имеет значения. Для нас — не имеет. Я подумал: может, нам, не откладывая, зафиксировать наши отношения?
— Отношения? Зафиксировать? — стеклянная мама не просто боялась разбиться. Она, кажется, потеряла всякую способность ориентироваться в пространстве.
— Ольга Викторовна! — В.Г. решил обойтись без обиняков. — Я прошу Вас стать моей женой! Если, конечно, Алина не возражает, — он быстро взглянул на меня, призывая в союзницы. До меня вдруг дошло, что происходит: моей маме — моей маме! — делают предложение. Здесь и теперь. То есть не совсем так: нам с мамой делают предложение.

