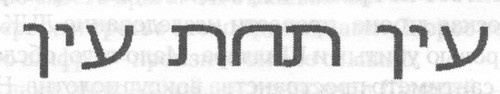Но Шацкий фотографировал не для того, чтобы иметь при себе это впечатляющее произведение искусства. Он фотографировал, потому что поперек полотна красной краской были выведены древнееврейские буквы:
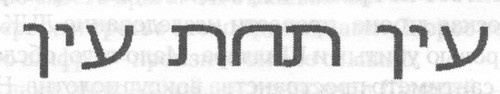
Ржавые, они светились на солнце словно кровавый неон, производя чудовищное впечатление, и Шацкого не удивила реакция мрачного уборщика. Он подозревал, что это могла быть типичная реакция католика при виде еврейских букв — боязнь, как бы не спрыгнули они с картины, не пронеслись по всему нефу и во второй раз не распяли Господа нашего Иисуса Христа, аминь.
Соберай и Вильчур появились немного погодя, одновременно с ксендзом-каноником и викарием — тех привела Жасмина. Представляли они собой довольно неожиданную пару. Шацкий, услышав, что вызваны каноник и викарий, вообразил себе комедийные фигуры — этакого пухленького толстячка и юнца с оттопыренными красными ушами. А тем временем перед ним стояли один к одному Шон Коннери и Кристофер Ламберт, словно они только что покинули съемочную площадку «Горца»
[112]
. Оба красивы до безобразия.
После непродолжительной пикировки присутствующие уяснили, что в интересах обеих сторон об увиденном лучше не распространяться, и это разрядило ситуацию. Следователи занялись следствием, а священнослужители, сославшись на обязанности охраны Дома Божьего, приняли роль зевак. Нет, до конца они умаслены не были, но перспектива прибытия епископа, который уже на всех парах летел из Кельц в свой родной собор и, кажется, был крайне недоволен, — перспектива сия была куда более незавидной, чем присутствие полиции и прокуратуры. А то, что епископ пользовался заслуженной репутацией холерика, могло означать одно — неприятности сегодняшнего дня еще только начинаются.
— Если это не краска, а кровь, то нужно проверить, не человеческая ли она, провести исследование ДНК и сравнить с кровью убитых и Шиллера. Мало того, обследовать каждый сантиметр пространства вокруг полотна. Надпись находится довольно высоко, и тот, кто ее сделал, должен был установить стремянку, влезть под портьеру, поставить ногу на ступеньку и повесить ведерко. Это дает десятки возможностей, чтобы оставить след, и этот след я должен иметь. Даже если нам сейчас кажется, что он и выеденного яйца не стоит, в суде он может оказаться на вес золота как звено в длинной цепи доказательств. Поэтому, если кто-то из криминалистов пискнет, дескать, нет смысла, надо внушить ему, что есть.
Соберай взглянула на него кисло.
— А меня ты теперь держишь за стажера?
— А тебя я предупреждаю, если придет сюда какая-нибудь Кася, с которой вы ходили в детсад, и станет умолять, что ей нужно с ребенком к врачу и что нет надобности все-все обследовать, потому что, мол, мелочи, то ты ей скажешь, что ее обязанность торчать тут до самого вечера и все как есть сфотографировать, даже если после этого она перестанет с тобой разговаривать. Ясно?
— Не учи ученого…
— Тридцать девять.
— Причем тут мой возраст?
— На моем счету тридцать девять дел об убийстве, двадцать пять из них закончились приговором. И тебя, Бася, я не прошу. Я тебе отдаю распоряжение. Прокуратура — иерархическое учреждение, здесь нет места демократии.
Ее глаза потемнели, но она не произнесла ни слова, только кивнула. За ней, опершись на исповедальню, неподвижно стоял Вильчур. К этой сцене восхищенно приглядывался викарий — видно было, что Дэна Брауна он знает не только в теории, как дьявола в писательской шкуре, но явно несколько вечеров посвятил основательному изучению своего врага. Он откашлялся.
— Первое и третье слово одинаковые. Скорее всего, это какой-то шифр, — произнес он еле слышно.
— Я даже знаю какой, — проворчал Шацкий. — Алфавит называется. Ксендз, вы знаете иврит? — спросил он каноника безо всякой надежды, будучи убежден, что тот в ответ сотворит крестное знамение и начнет изгонять дьявола.
— Я могу это прочесть. Первое и третье слово — «айн», среднее «техет» или «тахат». К сожалению, не знаю, что они означают. «Айн» — это, похоже, «один», как в немецком, только тогда это был бы идиш, а не иврит. — Должно быть он заметил недоуменный взгляд Шацкого, ибо язвительно добавил: — Да, представьте себе, у нас на семинарах была библеистика с элементами древнееврейского. Только я не всегда был внимателен, знаете, первые занятия, утром мы еще были уставшими после погромов.
— Простите, — сказал Шацкий. Ему и впрямь стало досадно, он понял, что, отвечая стереотипом на стереотип, мало чем отличается от пьяных неофашистов, которых вчера велел арестовать. — Весьма сожалею и благодарю за помощь.
Ксендз кивнул, а у Шацкого что-то щелкнуло в голове. Это уже начинало раздражать — если бессмысленные щелчки не прекратятся, надо будет поискать помощи у невропатолога. Но о чем могла быть речь на сей раз? Погромы? Семинары? Библеистика? А может, он что-то увидал краем глаза? Может, мозг его отметил что-то важное, что ускользнуло от сознания? Он внимательно осмотрелся по сторонам.
— Тео… — начала было Соберай, но он остановил ее жестом.
В одной из боковых часовенок его внимание привлекло изображение Христа Милосердного, копия с холста, написанного со слов сестры Фаустины — ей было видение. А под холстом — цитата из Евангелия от Иоанна: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».
Щелк.
В чем дело? Речь о Христе? О Фаустине? О цитате? О милосердии? Этого еще в его деле не хватало. Или о святом Иоанне Евангелисте? Тетки в магазине болтали о каком-то библейском конкурсе, и у него тогда тоже щелкнуло. Только в тот момент его голова была занята Гитлером и Джорджем Майклом. Боже, что за мысли! Он и сам их порой стеснялся. Сосредоточься! Библейский конкурс — щелк. Иоанн Евангелист — щелк. Семинары — щелк.
Не отводя взгляда от полотна, он старался соединить между собой эти факты.
Щелк.
Еще чуть-чуть, и он бы выматерился на весь костел. Как же можно быть таким идиотом, как!
— Нужно Святое Писание. Немедля! — бросил он викарию, и тот, не дожидаясь разрешения ксендза, кинулся в сторону ризницы. Только и слышен был просвист сутаны, прямо как в кино.
— Какие священные книги вы знаете, ксендз, чтоб начинались на букву «К»? — спросил он.
— В Библии Тысячелетия
[113]
такого указателя нет, — подумав, ответил каноник. — Тем не менее на букву «К» начинается книга Kapłańska
[114]
, две Krylewskie
[115]
, две Kronik
[116]
и Koheleta
[117]
. А в Новом Завете у нас два Послания к Коринфянам и одно к Колоссянам. Так мне сдается. По-латыни же нет ничего, что бы начиналось на «К», есть на «С» — Canticum Canticorum, то есть Песнь Песней в Ветхом Завете, и, разумеется, те же самые Послания к Коринфянам и Колоссянам.