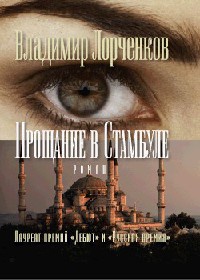
1
Я маленький шрам на пестрой шкуре Стамбула.
Я лежу на сыром от дождя и моря пляже Стамбула, и чайки перелистывают меня, словно брошенную книгу. Я отсырел, и глаза мои слипаются, как листья, и нет в этом мире ничего, кроме серого низкого стамбульского неба, мокрого серого стамбульского пляжа и чаек, белыми пятнышками осыпавших его. И меня. Я лежу на мокром песке, вспоминая, сколько раз и где я лежал так: когда по мне стекала вода, и волны, даже если они и далеко, доползали до меня и за ноги подтаскивали к морю. Сколько раз это было? Я перестал считать.
Мы лежим на диване, и по нам стекает вода.
На самом-то деле мы лежим на самом краю Океана. Мы перестали бороться с волной, и нас выбросило на берег. Мы лежим на мокром песке, мы лежим в убывающей, но все же воде, и сверху по нам течет вода. Мы мокрые, как два недавно выбросившихся на берег кита. Потерявшие ориентацию Голиафы, на которых Давида не нашлось. Голиафы, ставшие для себя Давидами. Побежденные собой Левиафаны.
Мы выбросились на берег – каждый по своим причинам, – но оказались рядом, вместе. Мы оба мокрые, а это сближает. Особенно если вы – выбросившийся на берег кит, который слишком тяжел, чтобы вернуться обратно в Океан по своей воле. Что ж, остается ждать. Что-то да случится. То ли кожа высохнет, и мы умрем, то ли прилетит сумасшедший «Гринпис» на своих вертолетах, чтобы засунуть под нас огромные носилки, тяжелые сети, и спасти нас, спасти от этого берега, песка и ветра, которые сейчас ласкают, но скоро – убьют.
Я поворачиваю голову и с интересом оглядываю ту, что оказалась со мной на этой отмели. Как она попала сюда и почему лежит рядом со мной?
Сбой системы навигации? Сама выбросилась? Заплыла на отмель полакомиться рачком, да забыла уйти с отливом? Приступ необъяснимого бешенства? В любом случае добро пожаловать. Я вижу тяжелый мокрый затылок, поросший жесткими красными волосами. Она чувствует меня – среди китов такое встречается повсеместно – и поворачивается ко мне лицом. Так близко, что я не вижу глаз. Только губы. Мясистые и благословенные, они глядят на меня.
Мы улыбаемся друг другу: я и губы.
Мы думаем об одном и том же. Подмога придет не скоро. Поэтому будь что будет. Нам еще не слишком страшно. Мы уже не в Океане, но еще не утратили связи с ним. Ритмичный стук его утробы бьет в нас волной, как сердце матери – в уши выскользнувшего из плена ее живота младенца.
Мы вылетели на берег умирать, но мы еще живы. Океан стучит нам, и мы не забыты. Слыша этот шум, этот стук, я зачарован. И говорю, пытаясь подладиться к ритму этого Океана, своего сердца:
– Я люблю тебя, Яна.
Конечно, про себя. Потому что не уверен. Точнее, уверен в том, что не люблю.
Она, глядевшая мимо меня на пену – на передвигающийся с волной край прибоя, конец нашего Океана, – соскальзывает с моей руки и идет в ванную. Уходит, щекоча волосами, оставшимися в постели. Я гляжу на нее, сначала на тело, потом на тень, падающую из коридора в комнату, затем – на шум плеска воды и глухое бессвязное пение. Трескание, щелчки, обрывки слов. Так поют между собою киты. Комната заполнена желтым светом, отраженным с улицы не успевшей опасть листвой.
Осень в разгаре.
2
Оба мы киты. Большие млекопитающие с малым мозгом, неспособные объясниться друг с другом словами. Вся наша кровь ушла в тело, не в разум. Мы прекрасны внешне: я часто любуюсь нами в стекле ее окна за приоткрытыми жалюзи. Ее тяжелой, как у всех китов, головой на фоне балконного стекла, когда мы пьем кофе на кухне перед тем, как пойти в спальню. Белый халат на ней – как пена волны. Редкие прыщики на коже лица выступают в густом вечернем воздухе, словно маленькие наросты-колонии паразитов на блестящей коже кита. Ночной воздух летнего Кишинева колышется, как океан, мы молча пьем кофе, пересвистываясь дыханием.
– Я, наверное, люблю тебя, Яна…
…хочется сказать мне ей, но мы оба уловили бы фальшь в этих звуках. О любви речи не идет. Мы спим не так долго, но уже этого достаточно для того, чтобы понять – между нами нет штампа, в любовных романах именуемого искрой, отчего эти романы прочно связаны в моем воображении с колесами поездов, высекающими из рельсов огонь. В то же время мы столкнулись, и ничем – кроме ошибки в навигации, приведшей двух потерявших ориентацию особей друг к другу, – я этого объяснить не могу.
Мы проделываем весь комплекс необходимых упражнений, мы дети даже не двадцатого, а двадцать первого века, и нам хорошо. Хорошо, но не более того. Она как раз была в промежутке между двумя романами, а это давало свободу. Формально я еще был женат, но это не лишало меня свободы, потому что моя жена, Елена, за два месяца до нашей встречи подала документы на развод. В общем, все совпало в наших возможностях тратить вечерние часы по нашему же усмотрению.
Она могла принимать в любое время, но предпочитала забивать вечерние паузы в те часы, когда сумерки еще не темнели настолько, чтобы считаться ночью. Да, она забивала мной паузы, я полагаю, и это меня совершенно не смущает. Что делал ей я? Не знаю. Секс? Ну, это само собой, это правило хорошего тона нынче, думал я, глядя, как она, прикрываясь халатом, встает с дивана, – спать с тем, кого ты хочешь попросту узнать. Сейчас и не попробуй узнать без секса – это воспримут как скрытую издевку, завуалированное – и потому двойное – оскорбление.
Она прикрывалась и выходила из комнаты. Стеснялась своей полноты. Напрасно. Я благодарен ей за то, что научился любить женщину такой, какая она есть. Что нормы нет. Что свисающий живот – это ерунда, и мягкая его складка может быть не только жупелом для молодого мужчины, вроде меня, в относительно хорошей форме, но и тем поручнем, ухватившись за который, ты, лежа на женщине, въедешь в рай. Ну, или хотя бы покинешь чистилище. Что целлюлит – это, оказывается, то, что раньше называлось ямочками на бедрах и очаровывало. Что лишние двадцать килограммов женщине не помеха, чтобы избирать и быть избранной. Но все-таки секс был не тем, из-за чего я шел к ее белеющему в светлых еще сумерках дому.
Я просто приходил к ней, словно кит, которого зовут сигналы другого кита. Еще не видного в толще воды, но уже зовущего. Брата по крови, или, если вспомнить о том самом, что делало нас различными, сестры по крови. И разуму. Она свистела, щелкала, булькала, и сигналы доходили до меня даже сквозь толщу двух километров, разделявших наши дома. Странное спокойствие охватывало меня, едва я подходил к ее дому.
Да и внешне мы напоминали китов. Большие, с мягкими животами, полными ляжками, тяжелыми руками. Иногда, глядя, как ее голова влажно скользит по мне, я замечал часы в виде штурвала, висевшие на стене ее комнаты. И слышал шум моря, явственный шум, и превращался в кита, и ждал, что мой член в ее рту разгорится фосфоресцирующей зеленью китового пениса.

