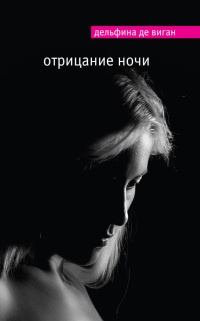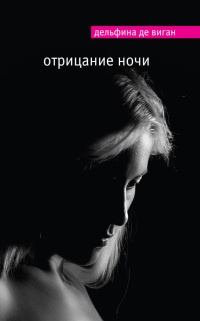
Посвящается Марго
Однажды я рисовал, и черный цвет царствовал на моем полотне – ни контрастов, ни пробелов, ни форм – только чернота.
Когда черному ничто не противостоит, он кажется ненастоящим, несуществующим. Абсолютно черный – это отрицание черного.
Черный отражал свет, и едва уловимое во мраке сиянье подстегивало меня, я хотел творить и теперь следовал уже не за тьмой, а за светом в ночи.Пьер Сулаж
Часть первая
Моя мама была голубой, бледно-голубой и еще – пепельной, когда я нашла ее тем январским утром. Руки казались более темными, чем лицо, а пальцы – словно измазанными в чернилах.
Мама лежала мертвой не первый день.
Не знаю, сколько секунд или минут мне понадобилось, чтобы осознать очевидность (мама как будто спала и не отвечала мне), но спустя довольно долгое время, смутное хрупкое время, из моих легких вырвался крик – так случается после апноэ. И хотя с того момента прошло целых два года, я до сих пор ломаю голову над загадкой: почему мозг так долго отказывался принимать смерть? Почему, несмотря на гнилостный запах мертвого тела и неестественную позу, я так долго не понимала, что передо мной труп? Мамина кончина дала мне повод поразмыслить о многом.
Через месяц с хвостиком после похорон, в состоянии редкого отупения, я получала премию «Книжных магазинов» за свой роман, в котором одним из персонажей являлась мать – женщина, добровольно запертая в четырех стенах, далекая от реальности, спустя годы молчания наконец-то оценившая пользу слова. Я подарила маме книгу еще до публикации, гордая и довольная тем, что завершила новый роман. Впрочем, даже сквозь плотную завесу художественного текста проступало острое лезвие правды.
Я совершенно не помню ни церемонию, ни место, где меня чествовали. Ужас не покидал меня ни на минуту, но я улыбалась. Как-то раз, когда отец моих детей упрекал меня в нежелании «принимать действительность» (его бесила моя способность контролировать выражение лица в любых ситуациях), я ответила ему, что я контролирую не выражение своего лица – свою жизнь.
На ужине, последовавшем за церемонией, я тоже улыбалась и думала лишь о том, как бы еще часок удержаться в положении «стоя», потом в положении «сидя», как бы не упасть лицом в салат, подобно тому, как я в двенадцать лет нырнула в пустой бассейн. Моя внутренняя борьба требовала серьезных физических усилий, хотя, конечно, все знали о моем горе. Но я думала: лучше связать свою боль по рукам и ногам, задушить ее, заставить ее молчать, по крайней мере до тех пор, пока я не вернусь домой, иначе я просто не смогу остановиться, и тогда мой вопль, мой стон опрокинет меня наземь, пригвоздит к месту.
В последние месяцы события проносились стремительно, моя жизнь, как всегда, ставила мне слишком высокую планку. Поэтому во время свободного падения я улыбалась или сопротивлялась (или делала вид, что активно сопротивляюсь). А в такие моменты лучше стоять, чем лежать, и лучше смотреть вперед, чем вниз.
В последующие месяцы я написала новую книгу, которую уже давно наметила. Не знаю, как я ее осилила. Наверное, когда дети уходили в школу, мне было некуда деваться, поэтому я проводила часы за сияющим экраном компьютера. Одиннадцать лет я проработала в компании, где из меня высосали все соки, затем уволили, и тогда я ощутила головокружительную легкость, которая позже – когда я нашла Люсиль голубой и неподвижной – трансформировалась в страх, а страх – в туман. Я принялась писать, писала каждый день, и лишь мне одной известно, до какой степени моя книга, не имеющая никакого отношения к матери, проникнута ее смертью и настроением, в которое она меня погрузила. Мама умерла, не успев увидеть напечатанный экземпляр и оставить мне на автоответчике уморительное сообщение по поводу презентации на телевидении.
Однажды вечером, зимой, в год смерти мамы, когда мы с моим сыном возвращались от дантиста и шли по улице Фоли-Мерикур, он безо всякого повода совершенно неожиданно спросил меня:
– А бабушка… она ведь в каком-то смысле покончила с собой?
До сих пор этот вопрос не дает мне покоя, и даже не сам вопрос, а та форма, в которой он был задан –
в каком-то смысле покончила с собой, – девятилетний ребенок пробовал почву, боялся меня ранить, передвигался на цыпочках. Он действительно не понимал, что произошло: учитывая обстоятельства, смерть Люсиль вполне напоминала самоубийство.
В день, когда я нашла маму мертвой, я не смогла забрать детей. Они остались у отца. На следующий день я сказала им что-то вроде «бабушка умерла» и, отвечая на вопросы, «она хотела уснуть» (боже мой, ведь я читала Франсуазу Дольто [1] ). Спустя несколько недель сын назвал вещи своими именами. Бабушка покончила с собой, да, послала мир подальше, опустила занавес, оплатила счет, отошла от дел, сказала «stop», «basta» [2] , «terminado» [3] , у нее имелись на то причины.
Не знаю, как я решилась писать
оматери,
сматери,
поее образу и подобию; я всегда отвергала эту идею, держалась от нее подальше столько, столько могла, мысленно составляя список современных авторов и классиков, создавших шедевры и посредственные романчики всевозможных жаров о своих матерях; я пыталась доказать себе, насколько тема «матери» избита и сложна, сколько препятствий на пути, какой риск.
Моя мать представлялась мне слишком сложной, странной, отчаянной и, в конце концов, невыносимой личностью.
Я попросила сестру собрать мамину переписку, ее тексты и бумаги и отнести в подвал. В доме я не нашла бы места.
Спустя какое-то время я научилась думать о Люсиль спокойно, не задерживая дыхание: я вспоминала ее походку, спину, слегка наклоненную вперед; сумку через плечо, на бедре; сигарету, крепко зажатую между пальцами; опущенную голову в вагоне метро; дрожащие руки; точные метафоры; короткий резкий смех, который словно удивлял ее саму, интонации. Мама умела «держать лицо», но голос выдавал чувства.
Я подумала, что никогда не забуду ее холодный странный юмор и невероятное воображение.
Я подумала, что Люсиль по очереди влюблялась в Марчелло Мастроянни (она постоянно его цитировала); в Йошку Шидлоу (театрального критика из журнала «Телерама», которого мама никогда не видела, однако восторгалась его стилем и умом); в бизнесмена по имени Эдуар, чья личность так и осталась для меня загадкой; в Грэхэма, натурального клошара 14-го округа – в хорошие времена он играл на скрипке, а потом его убили. О мужчинах, которые реально разделили с мамой жизнь, я и говорить не хочу. Мне кажется, однажды она провела вечер где-то на окраине города в компании Иммануила Канта и Клода Моне, за ужином, на котором подавали вареную курицу с овощами, а потом вернулась домой на RER [4] и по дороге умудрилась раздать все свои деньги нищим – после этого эпизода банк лишил ее чековой книжки. Мне всегда представлялось, что мама с одинаковым успехом могла бы полностью контролировать вычислительные системы своей компании и сеть железных дорог во Франции, а между делом – танцевать на барной стойке.