Из коридора донеслись взвизги и причитания.
– Теперь держите его за плечи! Крепче!
Марья Прокофьевна достала из шкафчика стакан с
приготовленным лекарством и очень ловко влила содержимое больному в разинутый
рот.
Он послушно сглотнул и почти сразу обмяк.
– Уходите! Все! – приказала экономка.
Коридор опустел.
Она перечитывала записанное, хмурила брови. Странник лежал
без чувств, тихо постанывая.
– Давно вы с ним?
Теофельс с любопытством рассматривал не совсем понятную
женщину.
– Что? …Давно.
Говорить ей про это не хотелось.
– А вы, простите, кто? – не отставал Зепп. – Я ведь вижу, вы
не похожи на остальных.
– Я Мария. – Она печально смотрела на лежащего. – Магдалина.
– Понятно…
Это очень часто бывает: с виду человек психически нормален,
а чуть копнешь… Ну, Магдалина так Магдалина.
По имевшимся у майора сведениям, после приступа своей
странной болезни Григорий становился благостен и мягок, как воск.
– Скоро он очнется?
– Сейчас…
Серые, ярко блестящие глаза действительно скоро открылись.
Они смотрели на потолок спокойно, будто никакого припадка не было.
– Надо свежего воздуха. – Зепп поднялся. – И посадим его
ближе к окну.
Так и сделали.
Укутанный в плед, Странник медленно отхлебывал чай, слабо
улыбался.
– Ну, Марьюшка, что я нынче вещал? Зачти.
Она молчала.
– Ладно, после, – беспечно молвил он. – У меня, Емеля,
разные виденья бывают. Малые и большие. Сонные и явные. Какие понятные, а какие
и нет. А еще зеркал видеть не могу. У меня в дому ни одного нету. Глядеть в них
мне нельзя. Проваливаюсь. Как в пролубь. – Он передернулся, но тут же снова
заулыбался.
Все-таки это что-то эпилептическое, предположил Зепп. С
типичной эйфорической релаксацией после приступа.
– Две силы во мне, мил человек. Бесовская и Божья. По все
дни бесенок поверху семенит, такое уж это племя. Но как молонья Божья полыхнет
да гром грянет, тут он в щель. Тогда вещаю голосом ангельским. А отгремит гром,
отсияет радуга, и снова лезет лукавый, снова евоный праздник. Ишь, зашевелился
запрыгал. – Он засмеялся, постучал себя по груди. – Вина, плясок просит.
Нуте-с, приступим…
– Отче, все хочу спросить, – сказал Зепп, стоя у окна. –
Почему возле вашего дома столько людей, похожих на переодетых полицейских?
– Они самые и есть. Из Охранного. Мама за меня опасается.
Многие моей погибели жалают. Убивали меня уже. Но меня просто не возьмешь.
Само-меньше три смерти надо.
Теофельс заметил, как Марья вздрогнула и спрятала записную
книжку в карман.
– Гадко сегодня на улице, – поежился Зепп. Промозгло. Раз
люди из-за вас стараются, поднести бы им.
Странник охотно согласился.
– Добрая ты душа. А мне и в голову… Снеси-ка им, Марьюшка.
Вчера откупщик водки клопиной принес. Я-то ее не пью.
– Не женское дело водку носить. Я сам.
Зепп взял у экономки поднос с шустовским коньяком,
стаканчиками, печеньем.
Выходя, слышал, как Григорий сказал:
– Мильонщик, а сердцем прост.
Нет, не прост!
Когда Зепп вернулся, Странник, свежий и розовый, будто после
парилки, сидел у стола и с аппетитом ел.
– Садись, Емеля. Штей покушай. Хороши!
– Что-то не так, – озабоченно сказал Теофельс. – На лестнице
и в подворотне точно агенты Охранки. Но на крыше еще какие-то. Двое. Я
спрашиваю: ваши? А охранные говорят: нет, это из контрразведки. С утра засели.
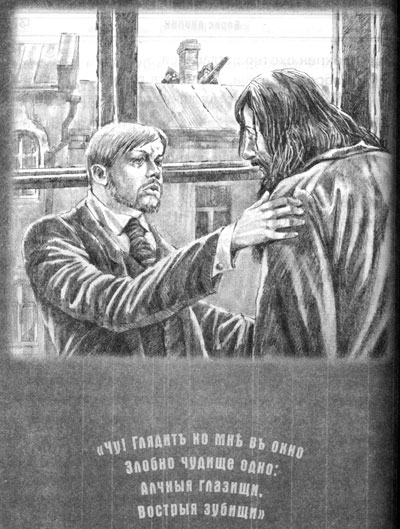
– С контрразведки? От Жуковского-енарала? – Странник выронил
ложку. – Где?
– А вон. Я их еще раньше из окна углядел.
На крыше соседнего дома, возле трубы, лежали двое в
брезентовых плащах с капюшонами.
– Чего это они? – Григорий испуганно почесал бороду. – Что я
им, немец что ли? Шпиён? …Ты что?!
Это Зепп схватил его за плечи, оттащил.
– У них там футляр какой-то. Длинный. Вы вот что… К окну
больше не подходите, ясно? Тут шагов тридцать, не промахнешься.
– Господи, Твоя воля, – закрестился Странник.
– Боюсь я за вас, отец. Врагов у вас много. Если сам
Жуковский решит вас извести, не убережетесь.
Всхлипнул Григорий, пожаловался:
– Как кость я им в горле. Чего терзают, за что ненавидят?
Вот я на енарала маме пожалуюся… Мне б только в Царское попасть. И малóй
хворает… Сердцем чую, плохо ребятенку. А скоро вовсе худо станет.
– Мало пожаловаться. Надо сказать царице, что вы не станете
лечить цесаревича, пока не уволят вашего врага Жуковского.
Странник удивился:
– Ты что говоришь-то? Грех какой. Тьфу на тебя.
Но Зепп все так же напористо объявил:
– Вы как хотите, отче, а я от вас теперь ни на шаг не
отойду. Тут стану жить, вас оберегать. Мне много не надо, вон на матрасе
пристроюсь. Но уж и вы пока сидите дома. Никуда не ходите.
– Как же мне не ходить? Сегодня к Степке-камельгеру зван.
Надоть идти. Там много дворцовых будет. Может, кто возьмет записочку маме
передать. Или словцо замолвит…
– Тогда и я с вами. Как хотите, но от себя не отпущу!
У «камельгера Степки»
«Камельгер Степка» оказался камергером императорского двора
Степаном Карповичем Шток-Шубиным. До 1914 года этот господин звался Стефаном
Карловичем фон Штерном, но, с высочайшего соизволения, привел свое имя в
соответствие с общим духом патриотизма, присовокупив девичью фамилию супруги.
Со Странником камергера связывала давняя дружба. Особенно оценил Григорий то,
что «Степка» не отвернулся от него в час опалы. «Вот уж друг так друг, все бы
так», – сказал Странник.
Вообще-то особенной доблести в поведении Шток-Шубина не
было. Никто из петроградцев, осведомленных о придворных обыкновениях, не
сомневался, что рано или поздно тучи, сгустившиеся над головой сибирского
пророка, разойдутся, как это уже не раз бывало прежде.
Принимали в палаццо на Крестовском острове. Плешивый, с
длинными бакенбардами хозяин троекратно облобызался со Странником, который
назвал его «Стяпаном-Божьим-человеком». Зеппа камергеру было велено «любить».
Однако Шток-Шубин ограничился неопределенным кивком:

