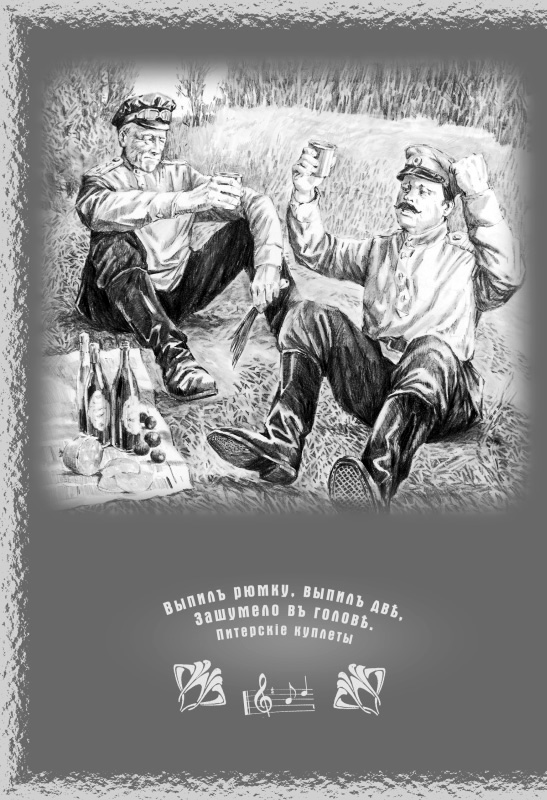Познакомились. Выпили по паре.
Тимо достал пузырек с авиационным спиртом, разделил поровну,
долил пивом. Это был русский национальный напиток, назывался «йорш»,
Kaulbarsch. Отрава страшной опьяняющей силы. Правда, сам Грубер никогда не
пьянел, это у него было наследственное.
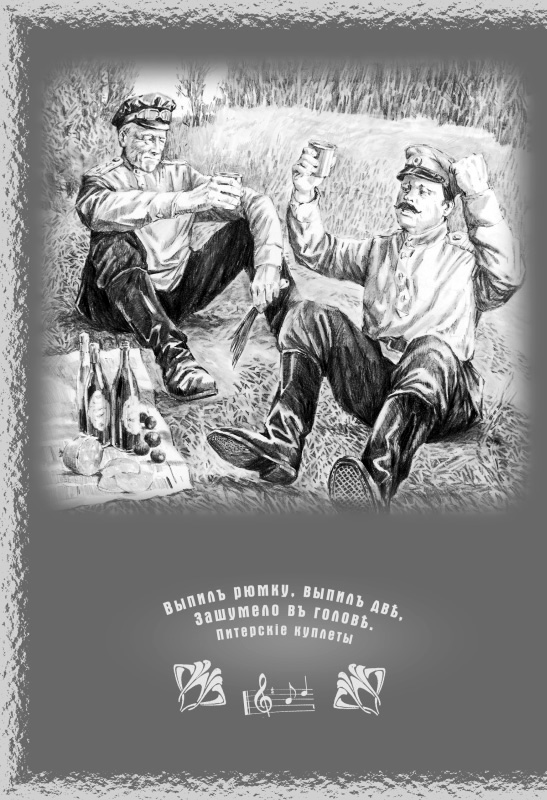
Он выпил колючий Kaulbarsch до дна, мерно двигая кадыком.
Сплюнул. Вытер губы. Закусил редиской.
Унтер-офицер Земен Земеныч со звучной фамилией Зыч наблюдал
за этими манипуляциями с уважением.
Двумя часами позднее
Уж и стемнело, а новые друзья все не могли расстаться. Они
стояли у высокого забора и препирались. Семен Семеныч уговаривал приятеля
продолжить приятную встречу и очень обижался, что тот не соглашается, хотя Тимо
сразу согласился. Но унтер пребывал в той стадии опьянения, когда любишь всех
вокруг и обижаешься, не чувствуя должной взаимности.
– У нас в Расее как? – говорил Сыч, держа перед
носом палец, чтобы собеседник не перечил, а слушал. – Меня угостили, и я
угощу, если вижу, что хороший человек. Вот ты, Тимоха, к примеру, хоть и чухна,
а человек хороший. Так? – Грубер кивнул. – И я человек хороший. Или
ты со мной не согласен? – Тимо снова кивнул, и унтер завершил свое
логическое построение: – А как коли ты хороший человек и я хороший человек, то
почему двум хорошим людям не выпить вторую бутылку?
Он показал на одной руке два пальца и на другой два пальца –
получилось и убедительно, и наглядно.
– Надо фыпить, да.
– Вот. А ты спорил.
– Я не спориль. Я говориль, штоп фыпить, надо сабор
ходить, а сабор нельзя – часовой.
– Дурак ты, Тимоха, хоть и хороший человек.
Семен Семеныч хитро подмигнул, палец прижал к губам и
показал приятелю вот какую штуку: нагнулся, вынул гвоздь из одной, только ему
известной доски, отодвинул ее.
– Милости прошу до нашего шалашу! Начальство умное, а
мы умнее. Завсегда можем свою свободу иметь. Но только тс-с-с. Нижним чинам про
мой сукретный лаз знать не положено.
Они продрались через занозистую щель на территорию. Под
забором было темно, но по углам зоны и в центре горели яркие прожекторы. Между
бараком и ангаром виднелась черная зачехленная громада «Летающего слона». По
ней, серея, проползла неторопливая маленькая тень – дозорный.
– Давай за мной, – шепнул Сыч. – Только
молчок, а то болтаешь много.
Преувеличенно крадущейся походкой он двинулся вдоль стены
барака и через несколько шагов споткнулся о водосток.
– Стой, кто идет?
От самолета, наставив карабин, приближался часовой.
– Я это, я. – Семен Семеныч распрямил
плечи. – Подышать вышел. Служи, солдат, служи. Гляди, ик, в оба.
Иканию и легкому покачиванию начальника постовой не удивился
– очевидно, дело было обычное.
– Господин унтер-офицер, скоро смена? Дежурный, гад,
пользуется, что у меня часов нету.
– Ты не рассуждай. На пост вон ступай.
После того как часовой отошел, Сыч поманил собутыльника:
можно.
Дело шло на лад
Семен Семеныч квартировал в бараке для нижних чинов, однако
не с солдатами, в общей казарме, а в отдельном закутке. Там стояла настоящая
пружинная кровать, на стене висел парадный мундир с шашкой, для красоты имелись
открытки и лубочная картина «Как немец от казака драпал».
В углу поблескивал медными гвоздиками большой сундук, в
котором Сыч хранил всё свое имущество. Он порылся там, извлек замотанную
бутыль.
– У них сухой закон, а у нас первачок на шишечках.
Заневестилась, родимая. И колбаска есть, а как же. И хлебушек. Всё полной
чашей.
Он локтем смахнул с дощатого стола какие-то бумаги, разложил
угощение.
В роли хозяина Семен Семеныч держался церемонно:
– Первая за дорогого гостя. – Приятели поклонились
друг другу. Чокнулись. – Тимофей Иванычу.
– Земен Земенычу.
Выпили. Пожевали. Унтер посветлел ликом, расстегнул ворот.
– Первачок – чистый родничок… Так ты, говоришь,
плотник?
Тимо кивнул.
– И жалаешь при мне служить?
– Да.
– Ну и служи, раз так. Ты ко мне с дорогой душой, и я к
тебе. Утром поговорю с командиром, с Рутковским. Скажу: так, мол, и так.
Плотник, мол, нужон, я вашему благородию сколько разов докладывал. Он,
Рутковский, меня во всем слушает. Без меня – ничего. Вобще. А хороший плотник –
он завсегда. Правильно?
– Да.
Снова выпили. Семен Семеныч начал вступать в стадию
оживления, ему хотелось праздника.
– А чего ты смурной?
Тимо подумал-подумал, но что такое «смурной», не вспомнил и
на всякий случай сказал:
– Так.
– Врешь, Тимоха. Военному человеку нос вешать нельзя.
Ты сам откуда? Говорил, с Ревеля?
– Да, с Ревель.
– Немец или чухна?
– Я не есть немец. Я есть чухна.
– Ишь, оби-иделся! – засмеялся Сыч. – Это
хорошо, что не из немцев. У нас ихнего брата к «Муромцу» служить не подпущают.
Такая от начальства струкция. Подпоручик Шмит, правда, имеется, но он русский.
А ежели ты чухна, будет тебе от меня сурприз. Знаешь, что такое сурприз?
– Нет.
– Узна-аешь… Посиди-ка вот…
Посмеиваясь, унтер вышел из комнатки.
В казарме на двухъярусных нарах спали солдаты из команды
обслуживания. Сыч подошел к одному, толкнул в плечо.
– Чуха, подъем! Давай за мной!
На веснушчатом, мятом спросонья лице мигали светло-голубые
глаза.
– Сачем?
– Приказ получил? Сполняй, – строго сказал Семен
Семеныч, но не сдержался, подмигнул.
В каморку они вернулись вдвоем.
– Вот, Тимофей, тебе мой сурприз. Земеля твой. Тоже
чухонец и тоже с Ревеля.
Тимо молчал.
Зато разбуженный эстонец оживился.
– Kas sa oled tõesti Tallinnast?
Suurepärane! – обрадованно воскликнул он. – Nuud ma saan
kellegagi inimeste keeles rääkida!
[3]
Грубер медленно поднялся из-за стола. Его костлявое лицо
было неподвижно.
Что-то случилось…
Единой побудки в Особом авиаотряде заведено не было.
«Особость» заключалась еще и в том, что личный состав жил не по распорядку, а
по погоде. Если она была нелетной, часть, можно сказать, вовсе не просыпалась.
Летуны кто дрых до обеда, кто уезжал развеяться в соседний город Радом, кто
просто хандрил. Механики и техники лениво возились с машинами. Для нижних чинов
из охраны, чтоб не задурили от безделья, адъютант устраивал строевые учения.