– И не говори, – с чувством поддержал его Теофельс
(они все уже были на «ты»).
В голове у него от сосредоточенности всё вертелось и
пощелкивало. Даже странно, что соседи не слышали этого лихорадочного перестука.
Кельнерша шла мимо с пустым подносом, уронила на пол
салфетку. Агбарян дернулся поднять, но проворный Зепп его опередил. Галантно
подал, нарочно коснувшись полной ручки красавицы. Задержал взгляд на ее лице.
Полька порозовела.
– Дзенькую, пан прапорщик. Спасибо.
Он попросил:
– Уроните что-нибудь еще.
Улыбаясь, она покачала головой и удалилась.
– Зря стараешься, Долохов. – Ветеран толкнул Зеппа
в бок. – У пани Зоси со Степкиным сурьезный ррроман. Ты опоздал.
– Тогда пойду повешусь.
Под общий смех гауптман вышел из кантины.
Так-так, говорил себе он, так-так.
Если бы кто-нибудь сейчас видел лицо шпиона, поразился бы:
оно меняло выражения и гримасы со скоростью быстро прокручиваемой кинопленки.
Искусство перевоплощения
То делалось приторно-восторженным, то мизантропическим, то
развязным, то застенчивым. Губы растягивались до ушей и сжимались в куриную
гузку, поджимались и рассупонивались; глаза глупели и умнели, по-овечьи добрели
и тут же сверкали злой иронией. Фигура и осанка тоже участвовали в маскараде.
Гений перевоплощения ссутуливался, выпячивал грудь, расправлял плечи,
скашивался набок, ни с того ни с сего начинал прихрамывать или потешно
подпрыгивать на ходу.
Теофельс разминался, словно жокей перед скачкой с
препятствиями.
Минута-другая, и он привел себя в состояние полной
пластилинности, из которой теперь мог вылепить что угодно.
Нельзя сказать, чтобы в Зеппе умирал великий актер. Потому
что актер и не думал умирать, а, напротив, был очень востребован и частенько
давал огромные сборы. Просто представление обычно устраивалось для весьма
узкого круга, и публика не подозревала, что присутствует на бенефисе.
В отличие от профессионального артиста Теофельс не умел
изображать ярость или безутешное горе, оставаясь внутренне холодным. Он был
адептом сопереживательной школы и на время исполнения роли действительно
превращался в другого человека, почти полностью. Будто бы стягивал свое «я» в
крошечный тугой узелок, однако для контроля над ситуацией хватало и узелка.
Экипаж «Муромца» прибыл на обед компактной группой. Что и
понятно: вместе летали, вместе отправились подкрепиться. Однако все они люди
разного темперамента и склада. Это, в частности, проявляется в скорости
поглощения пищи. Командир корабля, например, ел четко и организованно. Не
лакомился, не излишествовал. Такой субъект утолит голод и встанет из-за стола,
попусту рассиживать не будет. Его Зепп ожидал первым.
И не ошибся.
Рутковский спустился с крыльца, надевая пилотку. Остановился
зажечь папиросу.
Тут-то Теофельс к нему и подлетел. Его лицо пылало
благородным энтузиастическим восторгом.
– Господин штабс-капитан, прошу извинить, что вот так с
наскока… Я человек прямой… Позвольте начистоту…
Командир воздушного корабля был явно не из краснобаев,
поэтому и Зепп говорил сбивчиво, косноязычно.
– Господин штабс-капитан, вы меня не узнаете? Я
Долохов, вы видели меня в небе…
Бука Рутковский смотрел на него без улыбки, выжидательно.
– Помню. Летаете славно.
– Я не летаю… – Зепп задохнулся. – Я в небе
живу, вот что… Только в небе! А на земле – так, прозябаю… Не буду летать –
сдохну, честное слово!
– Понимаю вас.
Слегка оттаял.
– Я как вас увидел, сразу влюбился. Ни о чем другом
думать не могу.
Командир «Муромца» вздрогнул.
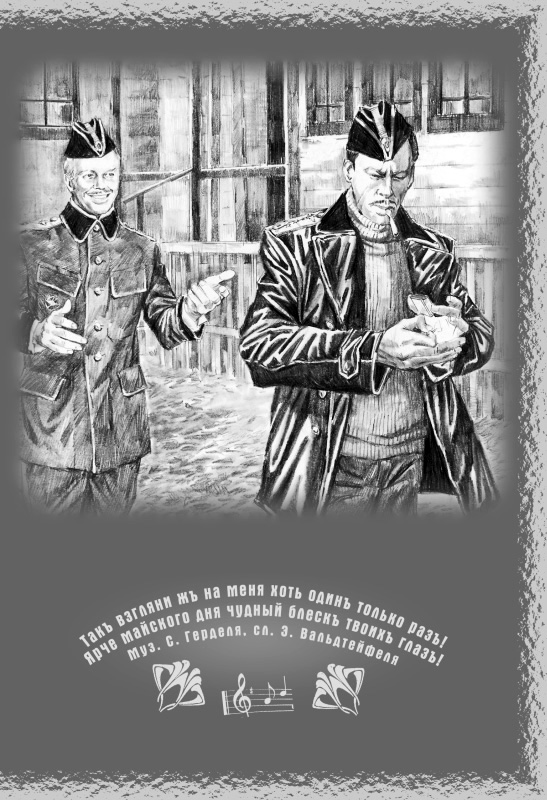
– Простите, что?!
– В вашего «Илью», – рубил правду-матку
энтузиаст. – Какая машина! Господин штабс-капитан, возьмите меня к себе! В
экипаж! Я летун, каких мало, поверьте!
– Да как я вас возьму? У меня комплект.
– Я видел, у вас второй пилот зеленый совсем. А если
вас ранят? Он же с управлением не справится. А я и из пулемета отлично могу.
Позвольте продемонстрировать! И в моторах разбираюсь!
Рутковский улыбался, польщенный таким напором.
– Шмит действительно малоопытен. И это, конечно,
замечательно, что вы универсал. Нечасто встречается. Но не могу же я взять и
отчислить товарища. Не по-летунски выйдет. Однако я буду иметь вас в виду. Если
кто-то из моих, не дай бог, выйдет из строя, милости прошу. Можете считать себя
первым кандидатом на замещение. Честь имею.
Он козырнул. Зашагал прочь, прямой, словно аист.
– Так я буду надеяться! – крикнул Теофельс и
подмигнул слуге.
Тимо сидел неподалеку на ступеньке, строгал щепку.
Солдатская форма его долговязой фигуре бравости не придавала.
– …Что ж, мы и не надеялись на легкий путь, но спасибо
за подсказку, – тихо сказал гауптман по-немецки вслед Рутковскому.
Отошел от крыльца в сторонку – нужно было осуществить некую
манипуляцию, не предназначенную для посторонних глаз.
Он вынул из брючного кармана плоскую фляжку с коньяком, из
нагрудного выудил завернутую в войлок ампулку. Очень осторожно вскрыл,
растворил содержимое в благородном французском напитке. Встряхнул.
Кто там у нас следующий – стрелок или второй пилот? Кто из
двоих вытянет у цыганки-судьбы короткую соломинку?
Механик-то наверняка задержится, у него на то имеется веская
златокудрая причина.
Подвижное лицо великого артиста попеременно изобразило
разухабистость (для забулдыги поручика) и мечтательность (для любителя поэзии).
И застыло где-то посередине. Потому что из кантины вышли оба
– и Лучко, и Шмит.
Поговорили о чем-то, вместе пошли по улице. Теофельс уж было
расстроился – ан нет, офицеры все-таки расстались.
Молокосос сел на бревна, раскрыл свою книжку. Сизоносый
поручик размашисто зашагал дальше.
Секунду поколебавшись, Зепп отправился за ним. Не потому что
юнца жальчей, чем пьяницу, – в деле сантименты неуместны. Просто Лучко
представлялся более легкой добычей.
Лицо гауптмана определилось с миной – сделалось открытым,
бесшабашным.
«Рубаха-парень»
– Сергуня! – заорал фон Теофельс, прибавив
ходу. – Сережка, черт, да стой ты!

