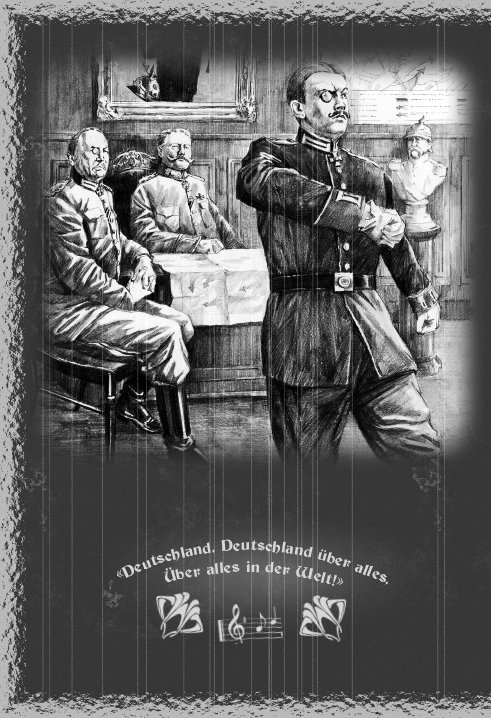Отличная аргументация, чтобы истребовать у министра
расширение бюджета, подумал Усы и записал в блокноте для высочайших докладов
«erblindeter Zyklop».
[22]
Пока он скрипел карандашом, Монокль подмигнул офицеру
незастекленным глазом: молодцом, Зепп, горжусь тобой.
– Хорошо, капитан, – Усы снова застегнул
крючок. – Можете идти.
Теофельс грациозно отсалютовал, с хрустом развернулся и,
звеня шпорами, отмаршировал за дверь.
– Настоящая военная косточка, – проворчал
начальник таким голосом, будто объявлял арест на тридцать суток.
Через адъютантскую Зепп прошествовал всё таким же гусаком. В
коридоре позволил себе несколько смягчить поступь. На лестнице оглянулся и
увидев, что никого нет, весело поскакал через две ступеньки.
Пролетом ниже остановился перед зеркалом, ухмыльнулся.
Начальству потрафил, теперь можно вернуть себе человеческий облик.
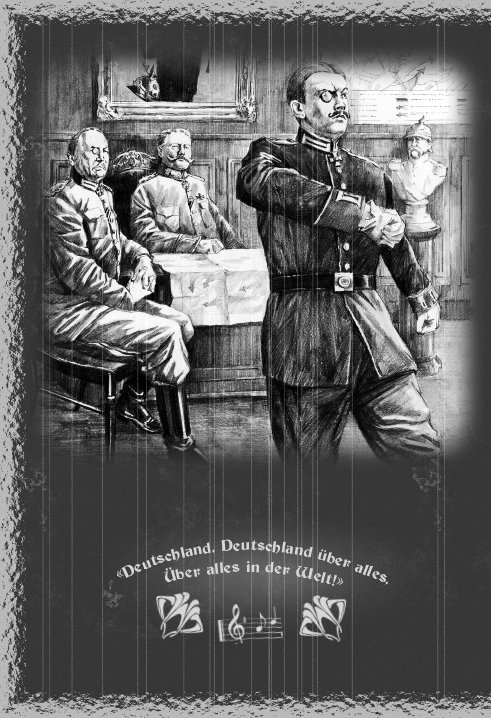
Он растрепал волосы и снова, но уже без пробора, разгладил;
монокль сунул в карман; с усов стер воск, и они распрямились.
Подмигнул себе. Шепнул: «Ловкий ты парень, чертяка». Сим
эпитетом Зепп аттестовал себя лишь в моменты наивысшего довольства.
Настроение у капитана было великолепное, еще с
позавчерашнего дня. Любовь начальства – в сущности, ерунда. Ордена – тем более.
Главное – виртуозно выполненная работа.
Убедившись, что на лестнице по-прежнему никого нет, капитан
фон Теофельс прокатился до следующей площадки по перилам.
В тот же день, в тысяче верст от Берлина
Не менее счастливый Алексей Романов крутил руль «руссобалта»
и распевал ариозо герцога Бургундского, заменяя «Матильду» на «Симаду», а
«черные очи» на синие:
Кто может сравниться с Симадой моей,
Сверкающей искрами синих очей,
Как на небе звезды осенних ночей!
Симочка, ради загородной прогулки повязавшая волосы платком
японского шелка (отсюда и «Симада»), слушала так восторженно, а взвизгивала от
скорости так очаровательно, что Алеша просто не мог не остановиться и не
поцеловать ее в раскрасневшуюся щечку, а потом в губки.
– Пой, пой! – попросила она (они уже второй день
были на «ты»).
Он снова разогнался по чудесной, только немножко пыльной
дороге и запел:
Она только взглянет, —
Как молнией ранит,
И пламень любви
Зардеет в крови;
Она засмеется
Иль песней зальется, —
И жемчугов ряд
Лицо осветят…
На ухабе Симочка ойкнула, качнулась всем телом к шоффэру.
Пришлось снова останавливаться и целовать ее.
Так и ехали почти до самой Гатчины: под рев мотора, пение и
звонкие поцелуи.
Когда свернули на проселок и сияющий водитель сказал, что
осталось совсем недалеко, Симочка прошептала «Жалко». Это ли не счастье?
А еще утром Алеша плакал. Не по-детски, конечно, не навзрыд,
но слезы на глазах выступали и голос срывался.
Это когда он провожал Лавра Константиновича на операцию, уже
вторую. Первый раз штабс-ротмистра резали еще позавчера, в сельской больнице,
но пулю достать не сумели. Нынче же князем должен был заняться профессор
Тихомирский, звезда военно-полевой хирургии. Шансы на выживание оценивались
невысоко, потому что пуля, разорвавшая офицеру внутренности, была разрывная.
– У нее оболочка при ударе раскрывается. Как лепестки у
цветка, – еле слышным голосом объяснил студенту Козловский, скосив
воспаленный взгляд на пышный букет, что стоял на тумбочке близ кровати. –
…От его превосходительства. Навещал. Руку жал. Даже в лоб лобызал.
Лавр Константинович закусил губу от боли и сделался еще
бледнее. Под глазами лежали синие тени, рот ввалился, к локтю была прицеплена
резиновая трубка (перед операцией раненому делали переливание крови).
У Алеши подкатил к горлу комок. Невыносимо было видеть
князя, такого сильного, энергичного, мужественного, в этой больничной палате,
на пороге смерти. Особенно, когда на улице светило солнце и жизнь была до краев
наполнена счастьем.
– Э-э, что это у вас капель из глаз, – попробовал
улыбнуться штабс-ротмистр. – Хороните, что ли? Зря. Мы, Козловские, порода
живучая… Предка моего Иван Грозный на кол посадил… Так князюшка день, ночь и
еще пол-дня не желал Богу душу отдавать. Висел себе да государя-батюшку матерно
лаял…
Алеша заморгал, стряхивая слезинки, и приказал себе: «Не
раскисать!» Перед наркозом больной должен верить, что всё будет хорошо.
– Так-то лучше. – Козловский облизнул лиловые
губы. – Я с вами вот о чем хотел… Что сказать? Молодец. Спаситель
отечества… Ладно, комплименты опускаю, сил нет. Я про другое… На что вам
математика? Всё равно будет война, не доучитесь. На фронт пойдете, жалко… У вас
талант. Вам в контрразведку нужно… Чинов у нас, правда, не выслужишь. Наград
тоже. Вам его превосходительство что сказал?
– «Отменная работа, господин Романов, – нагнув
голову и набычившись, передразнил Алеша генерала. – Отрадно наблюдать в
столь молодом человеке м-м-м столько самоотверженности и патриотизма. Благодарю
от имени отечества. Далеко пойдете». Лобызать не лобызал, но руку тряс долго.
Козловский беззвучно рассмеялся – уже неплохо.
– А мне сказал: «Сами знаете, на нашей службе боевых
орденов не дают, а на статский орден вы сами не согласитесь». Хитрит, бестия.
Так и не доложил наверх о похищении плана… Побоялся, что голову оторвут… За
плохую работу контрразведки… Наплевать. Главное, что немцам достался кукиш.
Это неромантическое слово было последним, что услышал Алеша
из уст товарища.
В палату вошел профессор, санитары вкатили тележку. Какой-то
господин в очках сразу закрыл князю лицо марлей, от которой сильно несло
хлороформом.
И повезли Рюриковича на ристалище Жизни со Смертью.
– Вам, юноша, тут торчать незачем, – строго сказал
профессор перед уходом. – Поверьте моему опыту: нервозность близких
передается оперируемому. Что это вы тут всхлипываете? Подите в синематограф,
выпейте вина, погуляйте с барышней. Если пациент вам дорог, источайте joie de
vivre.
[23]
Это его поддержит лучше рыданий.
А у выхода из госпиталя Алеше вручили пакет от князя. Там
лежал ключ от автомобиля и коротенькая записка: «Мне нескоро понадобится.
Катайтесь».
Вот Романов и послушался профессора, отправился источать
радость жизни.