— Как обидно, что ты пропустил самое интересное! Мы чудесно провели утро, не правда ли, месье Рапскеллер? Боже мой, Эктор, твой друг так разбирается в садоводстве! Ты помнишь, Эктор, что творилось с моими бедняжками лилиями?
— Ммм…
— С каждым годом их все сильнее сжигало солнце — а ведь они растут в тени! Месье Рапскеллер догадался, что свет на них попадал, отражаясь от окна кухни! Что до крокусов… как обычно, их сгрызли белки, но твой друг знает одно средство, его употребляют… Не могли бы вы повторить, месье, где его употребляют?
— На Мартинике.
— Совершенно верно, оно включает перец, чеснок и я не знаю, что еще. Пропитываешь луковицы перед тем, как сажаешь, и хвостатые бестии утрачивают к ним всякий интерес.
Шок от вида матери в таком преображенном состоянии сменяется общим опьянением. От солнца, от воздуха. От созерцания самого сада: цветущего шиповника с его дурманящим ароматом; розовых цветов вьюнка на покрытой плесенью кирпичной стене; тихо шелестящей листвы.
— И знаешь, что я еще узнала? — продолжает мать. — Азалии обожают кофе! Кто бы мог подумать! Знаете, месье, не могу не заметить, что когда вы получите свое виконтское наследство, то все это будет делать за вас целая свита садовников!
Шарль не понимает, о каком виконтском наследстве идет речь, но отвечает без малейшего колебания.
— О нет, мадам. Я никому эту работу не доверю, все буду делать сам. Растения ведь узнают того, кто за ними ухаживает. Они помнят ваши руки и ваш голос. Если вдруг с ними заговорит кто-то другой, они это сразу поймут и будут хуже себя чувствовать.
— Растения с барабанными перепонками! — взвизгивает мать. — Ха-ха!
Да, это правда. Она смеется.
На практике это означает, что ее зубы, темные от вечного пребывания в закрытой пещере рта, бросаются к свету, растягивая сопротивляющиеся этому натиску губы. Никого происходящее не удивляет больше, чем ее саму. Уронив зонтик, она обеими руками хлопает себя по щекам, словно желая удостовериться, что она — это по-прежнему она.
И с той же молниеносностью, с какой ее охватила внезапная смешливость, на нее накатывает совершенно иное настроение. Она словно впервые видит свои голые ноги, чувствует, как качается на ухе колечко из усиков жимолости. Глаза ее темнеют, и в следующую секунду она уже полуидет, полубежит к дому.
— Боюсь, я… извините… столько дел…
У меня у самого важное дело. Остаток дня я провожу, лежа животом на подоконнике и читая отцовский дневник. А когда надоедает, наблюдаю за Шарлем. За тем, как он рассыпает перегной. Сеет гранат. Сажает олеандр в голубой фарфоровый горшок. Копает, рыхлит, поливает, удобряет.
По мере того как идут часы, его шея делается все краснее, а под мышками на рубашке образуются большие влажные овалы. А он все работает, и его присутствие придает особую окраску всему, что я читаю.
«Сегодня утром мы с Лебланом приготовили Шарлю сюрприз: принесли в камеру четыре горшка с цветами…»
«Он сказал, что еще давно — в саду Тюильри — узнал, что с цветами надо разговаривать…»
Отвращение к неожиданным прикосновениям. Страх спать в темноте. Одно за другим перед моим мысленным взором выстраиваются совпадения.
Когда наступает вечер, Шарль слишком утомлен, чтобы ужинать. Он направляется прямиком в свою комнату и, после того как я помогаю ему снять сапоги, падает в кровать.
— Пожалуй, я сегодня не буду переодеваться на ночь…
— Это ничего, — говорю я ему. — Вы ведь весь день работали.
— Да…
— Завтра я покажу вам город — хотите?
— Мм… — Его взгляд упирается в потолок. — Я засыпаю.
Я вместе со стулом отодвигаюсь к двери. Вдыхаю запах пудры генеральской вдовы. Прислушиваюсь к размеренному бою дедушкиных часов внизу.
— Пожалуй, вам лучше подождать минут десять, — сквозь сон произносит Шарль. — Пока я не усну по-настоящему.
— Вы не против, если я почитаю? Про себя?
— Нисколько. — Зевнув, он приподнимает голову и, щурясь, смотрит на меня. — Вы эту книгу читаете? Наверное, старинная?
— Старинная, вы правы.
Он удерживает голову на весу еще пару секунд, потом роняет ее на подушку.
— Спокойной ночи, Эктор.
— Спокойной ночи.
Я открываю ту же страницу, которую с такой жадностью читал вчера вечером. В ней описывается сцена (так я представляю себе события: как последовательность сцен), в которой юный король впервые слышит о сыне доктора.
«Если бы вы взяли меня к себе, мы бы с ним стали как братья и я бы очень хорошо смотрел за ним, вам бы ни о чем не пришлось беспокоиться».
Я перечитываю эту фразу, и мои мысли возвращаются к спящему. Моему новому другу кажется, что, когда он засыпает, я его охраняю: но ведь в то же самое время и он охраняет меня.
Часом позже я опять у себя на чердаке, сижу, сгорбившись над свечкой. Вдруг мое внимание привлекает какое-то движение на улице.
Несколько минут я вглядываюсь в привычные очертания, стараясь воссоздать в памяти увиденное. Вспышка чего-то алого, похожего на петушиный гребень. Ни лица, ни тела… и все же этот фрагмент почему-то больше целой картины.
«Месье убил не того, кого надо, — сказал Видок. — Более того, он не знает, что убил не того. И это дает нам время».
Но если так, то кто наблюдает за нами? И когда он перейдет от наблюдения к действиям?
Глава 29
КОРОЛЯ ФРАНЦИИ ЗАХВАТЫВАЮТ В ЗАЛОЖНИКИ
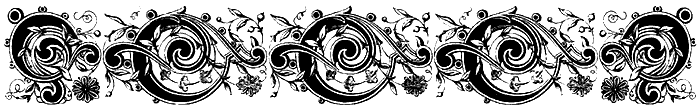
Гардероб «Шестого номера» сделал бы честь Комической опере, но Видок решил, что нам с Шарлем, чтобы гулять по Парижу, не привлекая к себе внимания, необходимо что-то более «привычное». За этим мы направляемся на улицу Бьютрейе в лавку еврейского торговца, прозванного Волшебник: за скромные несколько су в день он придает негодяям облик честных людей.
— Месье Жюль! — протяжно приветствует он Видока по одному из прежних имен.
— И вам доброе утро. Вот те два мерзавца, о которых я говорил.
— Мм, — задумчиво произносит Волшебник. — Никогда бы не подумал. На вид у них молоко еще на губах не обсохло.
— Кислое молоко, — ухмыляется Видок.
— Что ж, посмотрим. — Торговец роется в кучах одежды. — Вот мировой судья… только что стиранный… Есть кюре… Русский солдат, в последнее время самый популярный костюм… Английские таким успехом не пользуются… А вот это — поэт! Видите, жабо в чернилах? Костыли для нищего попрошайки… А вот здесь — взгляните — весьма убедительный прокаженный… Язвы поштучно за отдельную плату.
— По правде сказать, я подумывал о чиновниках, — замечает Видок.

