23 фруктидора
Днем получил сообщение: Комитет просьбу удовлетворил. Помощник приступит к своим обязанностям на следующей неделе.
Мне немного рассказали о нем. По профессии обивщик мебели. Отзывы верных республиканцев: безупречные. Скромный опыт в уходе за больными. Зовут Кретьен Леблан.
Глава 13
ДРЕВНЕЕ ИСКОПАЕМОЕ ПОДАЕТ ГОЛОС
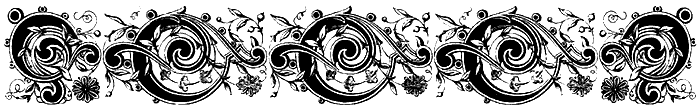
Чудеса, да и только. За обедом Рейтуз ни словом не упоминает о недавней встрече. Всякий раз, когда наши взгляды пересекаются, именно он отводит глаза, а как только обед заканчивается, извиняется и ретируется наверх, дабы возобновить занятия.
Ему, наверное, стыдно? Или, может быть, в те секунды, когда он висел, вздернутый Видоком за лацканы, он почувствовал, что существует другой мир — мир, в котором цивилизация и нанковые панталоны ничего не решают? Впрочем, не исключено, что я приписываю ему собственные мысли.
Так или иначе, Ростбиф с Кроликом, разочарованные слишком мирным течением обеда, также уходят, не отведав крови никого из собеседников; Шарлотта убирает со стола; в столовой остаемся только мы с матерью. Не то чтобы ее это как-то взволновало. Сегодня пятница, по пятницам она чистит столовое серебро.
Это серебро из ее приданого и, сколько я помню, оно ни разу не использовалось по назначению (жильцы пансиона Карпантье обходятся оловянной посудой). Пятничный пыл моей матери этим фактом не умеряется. Облаченная поверх черного тюлевого платья в фартук Шарлотты, она дополнительно надевает муслиновые нарукавники и принимается за дело с сосредоточенностью хирурга. Не проходит и пяти минут, как ее руки окутываются вязкой жемчужной пеной, словно она погрузила их во внутренности кита.
— Мама.
Она не отрывается от серебра и вообще не предпринимает ничего, что может отвлечь ее от этого занятия.
— Балясину ты так и не починил.
— Знаю.
— Ты уже сто раз говорил, что займешься ею.
— Я займусь.
— Ты и вчера это говорил. И позавчера тоже, и…
— Мама, прошу тебя. Мне надо кое о чем тебя спросить.
В висках у меня стучит, и когда я провожу ладонью по лбу, то смахиваю каплю пота.
— Не о чем, — поправляюсь я. — О ком.
— О ком же?
— Об отце.
Тут она — неужели? — делает паузу. Секундную.
— Что я такого могу тебе рассказать, чего ты не знаешь? — Она вновь берется за замшевую тряпку. — Ты вырос в этом доме, видел отца ежедневно. Это ведь ты жил здесь все эти годы?
— Я.
— Приятно слышать. Мне иногда казалось, что ты… подкидыш, которого эльфы оставили вместо настоящего тебя… Так иной раз думалось…
В следующие полминуты тишина нарушается лишь звуком трения замши о серебряную ложку.
— Мне кажется, — замечаю я, — из одного того, что ты с кем-то живешь, еще не следует, что у тебя не может возникнуть о нем вопросов.
Замша замирает на долю секунды, затем трение возобновляется с новой силой.
— Люди таковы, каковы они есть, Эктор. Нет смысла… такова жизнь.
— Он ведь был когда-то доктором?
— Кто?
— Отец.
Глаза у нее становятся тусклыми и бессмысленными и к тому же вращаются в глазницах, будто она что-то потеряла и теперь разыскивает.
— Это было много лет назад, Эктор.
— Почему он отказался он врачебной практики?
— Ох!
Она рукавом вытирает лоб. Над глазами у нее, подобно вторым бровям, появляется серая полоса пены.
— У него были свои причины, — говорит она. — Я в этом уверена.
— Какие причины?
— Это нелепо, Эктор! «Какие причины?» Как будто я могу… когда это было столько лет назад… — Она выжимает тряпку. — И довольно об этом. Не стоит ворошить старое.
Взгляните: перед вами идеальный образчик мышления времен Реставрации. Моя мамаша делает в точности то, что требует от нее нация. Было время, в ее окне годами полоскался триколор; теперь его сменило белое полотнище с тремя вышитыми золотом лилиями. Орлы и пчелы, некогда украшавшие ее фарфор, в наши дни уступили место королевским гербам. Единственный оставшийся у нее предмет, который хранит память о прошлом, — ваза в форме бутона с позолоченным «N» на боку. Вазу держат в секретной нише в кладовке и никогда не ставят в нее цветы.
— Когда отец был врачом, — произношу я как можно более равнодушным тоном, — каких людей он лечил?
— Да всяких.
— А не могло случиться так — мне просто интересно, не было ли такого случая, — что он лечил, скажем, аристократа?
Молчание нависает, как грозовая туча.
— Может, даже члена королевской семьи, — подсказываю я.
Она хватает со стола нож для масла.
— Эктор, — заявляет она, — не скажу, что мне нравятся твои вопросы. Кого там твой отец знал или не знал — да к тому же четверть века назад, — тебя не касается и касаться не может.
— Нет, касается.
Это всего лишь констатация факта, не более, но что-то заставляет ее приглядеться ко мне. Она перестает полировать серебро и мрачным глухим голосом произносит:
— Это дело рук того уголовника.
— Нет.
— Это он тебя надоумил.
— Мама, прошу тебя.
— Это он старается вытянуть что-то про твоего бедного отца.
— Мама, это я интересуюсь. Больше никто.
Она старается отвернуться от меня, отодвинуться подальше, настолько далеко, насколько это возможно, не выходя из комнаты.
— Стыдись, Эктор.
— «Стыдись», — тихо повторяю я. — А чего стыдиться? Если отец прожил такую тихую, такую безупречную жизнь, то что постыдного может быть в том, чтобы побольше узнать о нем?
Долгое молчание, в течение которого она собирается с силами.
Теперь она смотрит мне в глаза — чтобы точнее направить снаряд. Вот он летит, неотразимый и смертельный в своем полете.
— Чего он точно никогда не делал, так это не разбазаривал семейный капитал на шлюху.
Знаете, что самое странное? Эта фраза меня не пугает, а освобождает. У меня в голове словно загорается свет, и я выдвигаю стул, и усаживаюсь на него, и смотрю ей в глаза, и потому, что все расшаркивания отброшены, я чувствую, что могу глядеть так на нее хоть сто лет, могу взглядом вывести ее из равновесия.
А когда я, наконец, нарушаю молчание, какими мягкими волнами расходится звук моего голоса!

