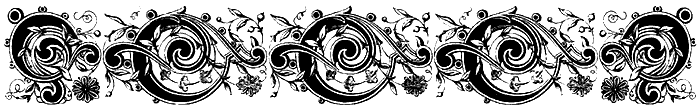Видок в упор смотрит на вора. В глазах у него мелькает недобрая искра.
— Она всегда хорошо отзывалась о тебе, Арно.
Почему вдруг я решаю, что в этот момент необходимо открыть рот — впервые, как мы пришли сюда?
— Ребенок, — говорю я. — Скажите имя ребенка.
Оскалившись, Пулен выплевывает имя, как шелуху от семечка.
— Арнадина.
Видя, как изменились наши лица, он оскаливается еще больше.
— Это была ее идея. Она не смогла родить мальчика, вот и придумала, что Арнадина поправит дело. В таких вещах, скажу я вам, у нее нежное сердце. Я всегда говорил: оно ее и погубит.
— Очень мудро, — замечает Видок.
Отодвинув стакан, он поднимается — и, прежде чем кто-нибудь успевает перевести дыхание, носком ноги опрокидывает стул Пулена.
Вор, привязанный за лодыжку, всем телом падает на пол. Придушенный вопль, дрожь непонимания. Видок, сама безмятежность, возвышается над ним.
— До чего черепа бывают мягкие, а, Пулен? Иной раз просто диву даешься.
И, перешагивая через распростертое тело вора, он одаряет меня улыбкой.
— На сегодня хватит, доктор.
Глава 8
СО ШПИОНА СРЫВАЮТ МАСКУ
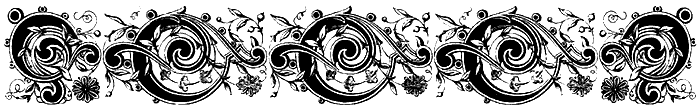
Когда Видок приводит меня домой, уже почти шесть вечера. У Аллара он позаимствовал плащ с капюшоном. У торговца подержанной одеждой приобрел (правда, покупка не сопровождалась видимой глазу оплатой) шляпу со сломанной тульей. Волосы он пригладил, предварительно смазав слюной.
Какие еще нужны свидетельства того, что мы возвращаемся к цивилизации? В мой собственный, родной ее уголок, хотя я почти не узнаю его. Вот я поворачиваю на улицу Святой Женевьевы, вот миную проклятый колодец, возле которого сиживал Барду, и слышу ритмичное похрюкивание пасущихся в сточных канавах свиней месье Трипо. Я у двери своего дома, но по-прежнему не могу отделаться от ощущения, что забрел не туда.
Но дверь отворяет Шарлотта, румяная и веснушчатая, и все сомнения разом рассеиваются.
— Он вернулся! — кричит она в глубь коридора. — Мадам Карпантье, он вернулся!
Мать маячит у дверей столовой: во всем черном, в шляпке с тюлем и шерстяной нижней юбке, она явно находится на грани нервного срыва. Юбка перешита из старого платья. Шлепанцы давным-давно соскочили с ног и удерживаются рядом с ними исключительно силой привычки. Она прикрывает рот руками:
— Ох!
— Месье Эктор! — Шарлотта надвигается на меня. — Вы…
— Он невредим, сударыня, — отвечает Видок, появляясь из-за моей спины. — Как вы можете убедиться.
Никогда не смогу с уверенностью заявить, в какую именно часть Видока мать вцепляется в первую очередь. В потрепанную шляпу? В прилизанные слюнями волосы? В выпяченную грудь? Я склонен думать, что во все сразу — она кинулась на него, как кидаются в бездну.
— Я собиралась посылать за жандармами, — тонким голоском начинает она.
— Зачем же, мадам! Префектура сама послала за вашим Эктором. — С этими словами Видок мягким собственническим жестом обхватывает меня сзади за шею. — Как раз сегодня ваш сын проявил исключительную отвагу в вопросе первостепенной важности.
— Первостепенной?
— Уверен, Эктор и сам бы с радостью вам все рассказал, но он поклялся хранить тайну. Самому префекту.
— Самому…
— О, ваш сын — человек блестящего ума! Весь Париж поет ему хвалу! Да что там — далеко ходить не надо! Как раз на днях, когда я, знаете ли, проводил краткие часы досуга в библиотеке герцогини де Дурас, герцогиня сказала мне — вы знакомы с герцогиней, мадам? — так вот, она потянула меня за рукав и своим очаровательным дребезжащим голоском произнесла: «Вы просто обязаны познакомить меня с прославленным доктором Карпантье!»
Благодаря последней фразе меняется весь тон разговора. Мать еще меньше меня привыкла, чтобы меня называли доктором. Ее рот превращается в тонкую линию.
Видок делает паузу, в течение которой понимает, что упустил нечто важное.
— Тысяча извинений, мадам. Забыл представиться. Видок.
Жест, сопровождающий эту фразу, заслуживает отдельного описания. Это не легкий наклон головы среднего парижанина, а нечто порывистое, отдающее полем брани. (Позже я узнаю, что он — фельдфебель.) На бедняжку Шарлотту это производит столь неизгладимое впечатление, что она, не в силах справиться с нахлынувшими чувствами, принимается со всей силы тереть уши.
— Ваша дочь, мадам? — осведомляется Видок.
— Служанка, — отвечает мать сухо.
— О, я вижу, ослепительная красота — обязательное условие жизни chez Carpentier!
[5]
— Он прикасается губами к руке молодой женщины. — Что за хорошенькие пальчики! Словно драгоценные кораллы, рассыпанные на берегу.
Лицо Шарлотты, следует заметить, всегда напоминает цветом пятнистый коралл — от близости к печи и вечной беготни по лестнице. Теперь же ее кожу словно заливает багровая волна. В этот момент мать, не утратившая в отличие от Шарлотты ясности ума, делает шаг вперед и тоном престарелой маркизы, разговаривающей с мусорщиком, благодарит Видока за возвращение сына.
— О, не за что! — хмыкает он. — Это для меня счастье…
— Всего хорошего, месье.
Когда дверь за ним захлопывается, он все еще там — размахивает руками, кривит рот.
— Какое чудесное знакомство, — слышу я его голос по ту сторону двери.
Лицо матери отнюдь не сияет, но оно и так-то сияет редко. Я помню всего четыре эпизода в жизни, когда она смеялась (в четыре раза больше, чем отец). Ее лицо словно создано для того, чтобы хранить время. Даже в глазах цвета известняка, когда-то, должно быть, красивых, теперь залегли годы, правильным и биологически заданным образом, подобно слоям в осадочной породе.
— Мы понятия не имели, где ты, — произносит она.
— Я знаю.
— Мог бы оставить записку.
— Прости, мама.
— Как будто мне делать больше нечего, кроме как беспокоиться: может, ты умер, или умираешь, или не знаю, что еще. Как будто я…
Она тянется к вешалке за платком, на мгновение ее речь прерывается, а когда возобновляется, то в голосе звучит раздражение, естественное для человека, которого внешняя сила выгнала из насиженного угла.
— Ради всего святого, сними пальто. Сапоги, естественно, грязные. Впрочем, можешь не беспокоиться, чистить их времени все равно нет. Наши гости уже за столом.
С самого первого дня, когда мы начали брать жильцов, мать настаивала на том, чтобы называть их гостями. Мне всегда казалось, что за оболочкой показной ласковости тлеет надежда. Гости ведь уходят…