«Что вы думаете о ваших соперниках?» — спросили его. Он
ответил: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было… Ну,
легкомысленны, но и милосердие иногда стучится в их сердца. Только
чеченский вопрос испортил их….»
Когда после пресс-конференции вышел в фойе, подслушал, как
корреспондент враждебного телеканала ТВН, волнуясь, говорит в камеру: «Сегодня
мелкий бес внезапно превратился в Мефистофеля».
Триумф, это был настоящий триумф!
В углу просторного холла, у телевизора, толпились люди.
Олигарх мельком глянул на голубой экран и замер.
Выступал главный теоретик правых сил.
«Я столько сделал для страны, а меня никто не любит, —
жалобно говорил политический оппонент Бориса Абрамовича. — Раньше вон
ничего не было, а теперь все есть. Хочешь колбасу — есть. Хочешь джинсы — есть.
Хочешь чай со слоном — есть. Забыли, как за гречкой и порошком „Лотос“ в
очереди давились?»
Манера говорить у главного либерала изменилась до
неузнаваемости, но еще более разительная перемена произошла в его внешности.
Лысина реформатора беззащитно поблескивала, галстучек на сиротской резинке
съехал набок, к лацкану куцего пиджачка присох яичный желток, а дужка очков
была склеена изоляцией.
«Господи, — запричитала уборщица, по-матерински
прижимая к себе швабру. — И чего взъелись на человека? Всю жизнь на нас,
паразитов, положил, а никакой благодарности».
Сука полупрозрачная, мысленно ахнул олигарх, все-таки
наведалась к своему «мальчику Егорке»!
Проблема 2000
Типа святочный рассказ
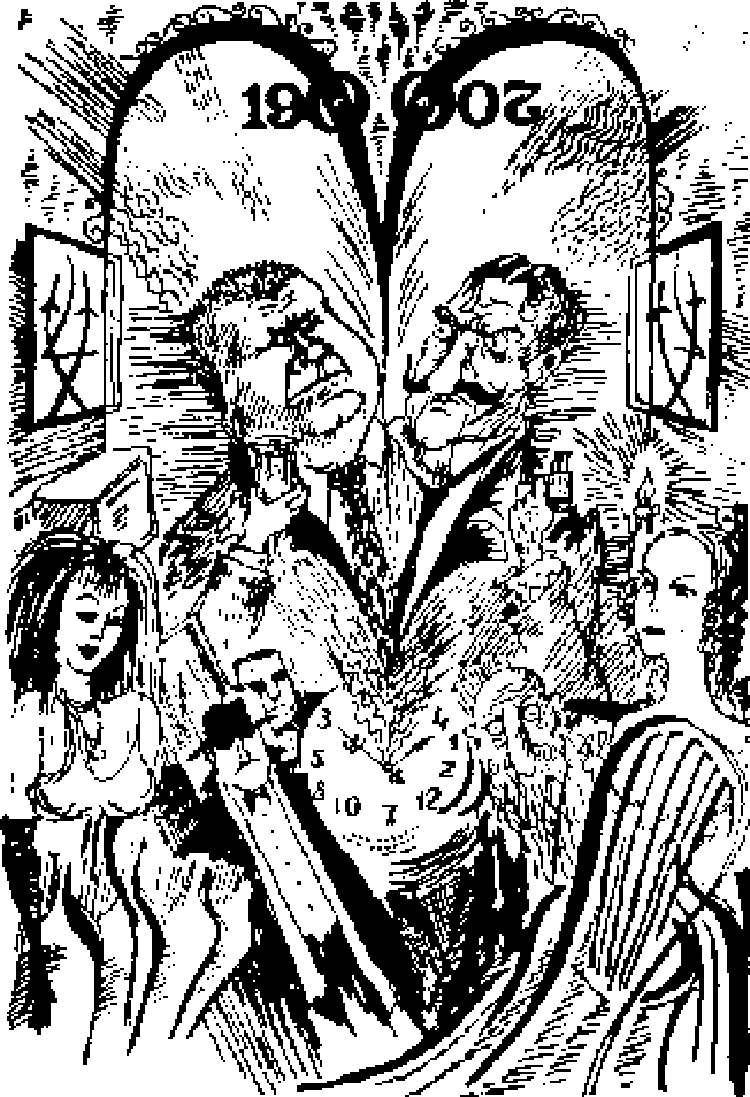

1
— Луцкий, немедленно откройте! Что за
ребячество! — жирным голосом взывал из коридора Солодовников, председатель
ссудно-кредитного товарищества «Добрый самарянин». — Мы сломаем дверь!
Ломайте, ваше степенство, усмехнулся Константин Львович,
стоя перед высоким старинным зеркалом. Дверь дубовая, скоро не поддастся. А
до полуночи остается всего три минуты. Каких-то три минуты, и век
закончится. Вместе с ним закончится и отставной штабс-ротмистр Луцкий,
погубленный страстями и мамоной. Будь проклят тот день и час, когда он, любимец
московских репортеров, герой Абиссинской кампании, согласился стать управляющим
этой подлой купеческой лавочки. Польстился на жалование, трехэтажный особняк,
хороший выезд. Лучше бы остался в полку — глядишь, эскадроном бы уже
командовал…
Увы, девятнадцатый век неумолимо отсчитывал свои последние
секунды. Сам же Константин Львович это и доказал — неделю назад, на
рождественском балу в Английском клубе. Шел обычный в нынешнем сезоне спор
о том, когда начнется двадцатый век — следующей зимой, с 1901 года,
или же нынешней, 1 января 1900-го. Луцкий отстаивал вторую точку зрения.
«Тогда у вас получается, что Спаситель родился в нулевом году, а сие —
математический нонсенс,» — прищурился присяжный поверенный Пфуль. Константин
Львович иронически улыбнулся, обвел взглядом слушателей и срезал умника: «А
позвольте вас спросить, милостивый государь, сколько времени продолжался первый
год от Рождества Христова? По вашему выходит, что всего шесть дней —
с 25 декабря по 31-ое, а там уж сразу начался второй. Нет,
Готфрид Семенович, Иисус родился 25 декабря предгода, то есть именно что в
нулевом году, и стало быть, первый год двадцатого века — 1900-ый».
В дверь ударили чем-то тяжелым: раз, другой, третий.
— Луцкий! Я не шучу! Чего вы добиваетесь? Деньги
возвращать все равно придется! Я потребую репараций через суд! Подумайте о
вашем добром имени! — надрывался Солодовников.
«Репарации» — словечко-то какое мерзкое. Так и несет
двадцатым веком. В девятнадцатом в ходу все больше было слово «сатисфакция». Ну
хорошо: он, Луцкий, чересчур вольно обращался с кассой, и Солодовников,
владелец «Доброго самарянина», почитает себя оскорбленным. Так вызови обидчика
на дуэль, как это принято в хорошем обществе. Но нет — грозится судом.
Купчишка, жалкий арифмометр с тройным подбородком. И ведь засудит, опозорит
столбового дворянина, у этих новоявленных хозяев жизни нет ничего святого.
— Констан, сейчас же отопри! Мы должны объясниться!
Энни! Это она! И, конечно же, скотина Солодовников все ей
рассказал — и про кутежи в Сокольниках, и про цыганку Любу, и про поездки
в Отрадное. Милая, бесконечно обожаемая, ну как тебе объяснить, что семья
— это одно, а Люба — это совсем-совсем другое?
Часы звякнули, готовясь бить двенадцать ударов. «Вечерний
звон, бом-бом,»— иронически улыбнувшись, пропел Константин Львович и поднял
пятизарядный «бульдог». В Бога он перестал верить с шестнадцати лет, после
первого визита в бордель, однако перед финалом жизненной карьеры все же счел
нужным произнести нечто вроде молитвы: «Господи всемилостивый, прости, если
можешь. Я не хочу жить в этом мерзком двадцатом веке».
На шестом ударе, одновременно с щелчком взводимого курка,
зеркало повело себя престранно. Серебряная гладь замутилась, стройная фигура
отставного штабс-ротмистра окуталась туманом и вдруг чудовищнейшим образом
преобразилась. Константин Львович увидел вместо себя какого-то бритого
толстощекого господина в коротком бордовом сюртучишке и с бокалом в
мясистой руке. Нелепая поросячья физиономия перекосилась от ужаса, и
из рамы выметнулась короткопалая пятерня, блеснув массивным золотым
перстнем.
Так вот она какая, смерть, успел подумать Луцкий и ощутил
мимолетное разочарование, ибо Великая Утешительница всегда представлялась ему
благообразной старухой, или бледной девушкой, или, на худой конец, суровым
старцем, но никак не этакой пошлой лакейской образиной.
2
Вован прикрыл за собой дверь, и музон как пригасило.
Конкретная была дверка — старинный дуб, блин, покруче любой железной. Круглую
комнату с гипсовыми телками и пацанами под потолком Вован сразу определил себе
под кабинет. Самое оно. Все ж таки генеральный директор, не хрен собачий.
Поставить офисный гарнитурчик с кожаными сидалами, навесить фальш-потолок, по
полу запустить реальный белый ковролин — выйдет адекватно.
Недвижка обломилась почти что на халяву. Раньше тут сидела
типа редакция какого-то научного журнала — такие лохи, каких Вован раньше
только по телеку видал, в кино «Девять дней одного года». Взял у них в
субаренду закуточек, скромненько так, по двести баксов за квадрат, а после
кинул интеллигенцию — чихнуть не успела. Сделал их так, что любо-дорого. Чисто
как в сказке: была у лоха избушка лубяная, да подсел на кидалово. Собрали
редакторы-птеродакторы свои пишущие машинки с фикусами и, как говорится, отбыли
в неизвестном направлении. Главный птеродактор (он же по совместительству
— главный лох) зашел попрощаться. Вован немножко напрягся — думал, кошмарить
станет. Но дедушка сказал только: «Вам, молодой человек, потом будет стыдно» —
и почапал себе пешим строем. Чистый зоопарк, блин.

