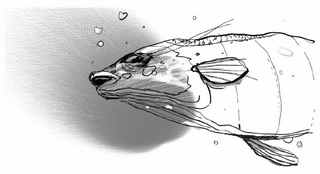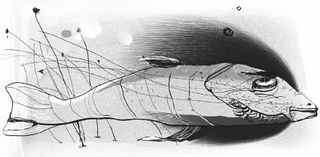Ой, девка, не реви — бьёт, значит любит. Иной пальцем не тронет, а словом так приложит, что век не заживёт. А синяка того всего ничего, поболит и перестанет. Или молчком которые — разве с ними можно? Собой чернее тучи, не глянет, днями слова не скажет, а ты сиди-мучайся, чего не так. А этот душу отведёт, пихнёт разок, а потом самому же и жалко, виноватится ходит. И с лаской после, с подарками лезет, а ты поломайся чуток для виду, и возьми, и приголубь. Если дурой не будешь, он стократно отдарит. Такая жизнь. Как ромашка. Мы, малЫе, лепестки обрывали: любит — не любит, плюнет — поцелует, к сердцу прижмёт — к чёрту пошлёт. Рвёшь и рвёшь листок за листком, и не заметишь, как кончатся. Так и бабья жизнь облетит.
Ты другой раз камнем не стой, рукой закрывайся, и кричи, и плачь, они слёз не могут терпеть, слабеют.
Ой, девка, тебе бы ребёночка родить. Страшно? а чего страшно, чего бояться? Мамка моя вон семерых выносила, троих подняла, а четверо померли. Рассказывала, как замуж отдавали, бабанька её присловью научила: «Мне родить, мне и хоронить», чтобы, значит, детки долго не заживались. Трудно жили, голодно. А теперь-то чего ж не рожать? Которые ленятся сами, тем секерно делают, живот режут и ребёночка достают, всех делов. Страшно ей, а, — мужик есть, чего ж страшно? Да от всякого родить можно, батя у нас ой и пил, а мамка таскала и таскала, одного за одним. «Не прокормит», ишь. Да если б мы думали, когда рожать, да от кого, да чем кормить, дак народ бы повывелся. А дитёнок-то нужен. От тебя одной мужик скорей уйдёт, чуть постареешь, и накой ты ему станешь, молоденькую найдёт. А от ребёночка, да от двух — куда денется, тридцать три процента вынь да положь… С чего ж трудно-то? они друг за другом смо-трют, старшие за младшими, так и растут, а тебе подмога в старости. А то ведь какая у бабы жизнь, какая смысла — только детки…
Ой, девка, плохо-плохо, а одной-то всё ж хуже. Как осиночка дрожишь, скрыться негде. Хоть какой, да свой мужик рядом, у скольких и того нет. Потерпи чуток, все терпят. Да и чего там той жизни, у мужиков век короткий, до шисят годов — и убрался, а ты кукуй потом одна, как хочешь. И десять лет пройдёт, и двадцать, а Бог всё не заберёт никак, жалеет. Поживи, говорит, ещё, Наська, ещё годок на небо посмотри.
Солнце какое нынче.
Рыбы золотые и серебряные
Вчера видела мужчину, который мне понравился. Такое случается редко, потому что совсем непросто найти человека, соответствующего антропометрическим параметрам, записанным в моей бальной книжечке. Чтобы и форма лицевых костей, и линия бровей, и масть. Попадание десять из десяти встречалось раза три в жизни, а здесь было примерно восемь. Не сошлось среди прочего вот что: для меня не существует прекрасных принцев старше тридцати двух лет. Всё, что взрослее, проходит в графе «другое».
И вот я вижу человека, который хорош всем, но стар, как два принца. То есть натурально: из вежливости можно сказать, что ему за шестьдесят, а по-честному — под семьдесят.
Он меня в чистом виде не заметил — что ему до существа, которое на жизнь моложе, почти прозрачно, почти невесомо. И я почти не заметила — что мне до тёмных теней, ни побегают со мной, ни поиграют. Но я-то его узнала.
Мне правда никто давно не нравился до такой степени. Он похож на мою главную любовь, точнее, на все три мои любви, которые уже слились в одну, как облако-озе-ро-башня совпадают в памяти, образуя недосягаемую-пе-чальную-одинокую и, разумеется, бессмертную красоту, годную только чтобы смотреть.
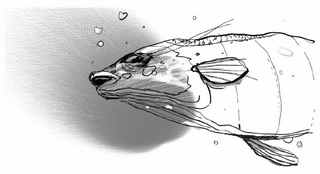
И моя постаревшая любовь вчера проходила мимо меня, а я мимо неё, и мы даже обменялись парой слов, но это была самая полная и безнадёжная невстреча, которая только случалась со мной. Мужчина может уехать, жениться, не полюбить. Он может существовать только на фотографии десятилетней давности — потому что растолстел и больше не принц. Но я никогда не думала, что бывает — точно такой, как хотелось, но в параллельном времени, и будто мы две рыбы, скользим, одна у самой поверхности, а вторая на дне. И та, что на глубине, никогда не поднимется, а другая не опустится — из-за разницы в давлении, — и только по движению теней и вод они догадываются друг о друге.
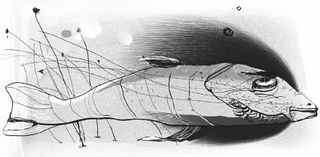
Лет через сорок я о нём вспомню и подпишу кому-ни-будь книжку — «с любовью, М.».
А потом это опять случилось. Я покупала винтажные духи, которым, наверное, лет двадцать, и коллекционер предупредил меня:
— Не привязывайся к ним, их больше нет. Больше нет этого сандалового, тёплого и пряного, больше нет апельсина и мускуса. Можно подобрать аналог, но того запаха, от которого на моём запястье осталась только тень, — не существует.
Остаётся любить то, что есть здесь и сейчас, и никогда, даже после бессонной ночи, засыпая на рассвете, когда сознание на короткое мгновение становится ясным и отчужденным, ни в коем случае не допускать мысли, что любимое нами, желанное, обольстительное — только тень того настоящего бессмертного аромата, которого на самом деле — не существует.
Я отдаю себе отчёт, что более или менее понимаю поколение тридцатилетних, — если выражение «понимать людей» вообще допустимо для приличного человека; немного помню о детстве и юности; но совершенно не могу представить, что на уме у тех, кто в два раза старше, за 60 и далее. Я думала об их печалях: ну что там может быть — страх смерти, «жизнь не удалась», ощущение собственной ненужности? И мне почему-то вдруг показалось, что скорбь третьего возраста в том, что дети — твои собственные дети, у которых, казалось, всегда всё впереди и обязательно будет по-другому, — уже немолоды и точно так же несчастливы, и жизнь их тускла и трудна. И вот это ощущение себя в бесконечной каторжной цепи поколений, где и позади, и впереди счастливых нет, должно быть, и есть самое страшное. И насколько легче тем, чьи взрослые дети благополучны.
Сделать человека
С детьми всегда так:
По выходе из младенчества мы только и делаем, что мучаем их, а они нас любят.
Хотелось просто воспитывать и строить свою жизнь, а по факту получается, что всё время заставляешь, орёшь, разрушаешь. Разводимся, разваливая их семью, перевозим с места на место, меняем среду — и давим, давим, давим. Всего лишь выпрямлять, чтобы этот цветок рос ровно, будить до света в школу, ставить почерк, делать уроки — орать, да, но ведь это всё необходимо.
(Не говоря даже, что мы просто люди, с нервами, с недостатками, самодурством, — нет, только о необходимом и оправданном давлении речь.)
А они в ответ на это — даже сопротивляясь — неотступно отчаянно любят.

Вот, а потом он вырастает, и так стыдно, ты ему — прости, прости, а он — да нормально, всё правильно, сделали из меня человека.