Когда узнала чуть лучше, решила, что она бесконечно оттачивает то неудачное движение, когда цепляется, стараясь удержаться, за холодную сталь. Почему-то люди, которые всегда спешат, часто утверждают, что стремятся к совершенству в каком-нибудь деле. Наверное, чтобы оправдывать свою неточность в прочих жестах и даже некоторую грубость, с которой отбрасывают остальную жизнь, пока отрабатывают прыжок, поворот и ап.
А потом однажды спросила прямо, а она ответила, что делает это – да – ради того судорожного и неизящного мгновения, единственного акта некрасивости, который разрешает себе на публике, редкого состояния, когда чувствует себя живой, а не бумажной. Рвётся рисовая бумага, трещит шёлк, ломается лакированный бамбук, когда хищный мускулистый зверёк собирается для прыжка, для выхода силой, для безобразного рывка к цели, показывается на секунду, а потом снова прячется в мягкое и блестящее, становится не виден, но он там есть, – и вот для этого всё.
Думаю, она всё же солгала, но теперь уже не узнать».
5
Нестерпимо хочется в дуры – будто это какая-то деревня в средней России, куда можно уехать, собравшись в один день. И не как обычно – с маленькой сумкой, в которой ноут, балетки на смену и салонный шампунь, остальное купим, а с клетчатыми баулами, рюкзаком и корзиной, прикрытой сверху белым платком. Сидеть на перроне на сумке, тревожно озирая своё добро, корзинка на проходе, и её цепляют пассажиры, девки рвут колготки о торчащие прутики, матерятся, шалавы, но мне не до них, не встать, не подвинуть к себе – неудобно. Объявят посадку, и нужно двумя руками затащить в вагон четыре места и пакет, пособачиться с проводницей, что в багажный не сдам, забить оба отсека под нижними полками – благо напротив свистушка с одной сумочкой, сесть, выдохнуть, дождаться движения с обязательным «ну, поехали». Отдать проводнице билет, взять бельё, «мужчина, выйдите», переодеться, достать из пакета яйца, соль, хлеб и ногу, и тут только понять, что корзинку всё-таки сп…ли. Впрочем, я и не помню, что в ней было.
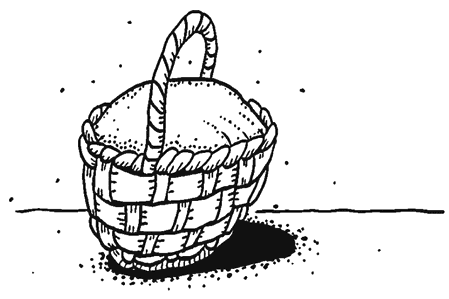
Храпеть.
Ехать не менее суток, а лучше двое, чтобы растерять гонор и остатки лоска, набраться смирения, научиться мерным мыслям и медленному времени.
Доехать на рассвете, за пятиминутную стоянку успеть ссыпаться со своими тремя местами (пакет бросить) и двинуть к автобусу. Полтора часа просидеть в тени, глядя, как подсыхает дорожная пыль, дождаться, влезть, пособачиться с контролёршей и всё-таки заплатить за багаж, хотя и меньше, чем она сначала сказала, сорок минут по тряской дороге, и всё, я уже в дурах.
Я уже в дурах, и мне хорошо, марля на окнах от мух, паутина в углах. Распакуюсь – окажется, всё барахло, всё старое и не нужно. Но не как сейчас, на куклу, а человеческое: лежалые халаты, байковые и простые, побитая молью кофта, другое тёплое, ватное, шерстяное, носки, попахивающие козой, наволочка с бельём и документами, сапоги. Зачем всё это? Затем что дура. Это моя скука.
В другой сумке – пара тетрадок и конверты, три ручки и двенадцать цветных карандашей, вырезки из журнала «Здоровье», часы, отрывной календарь, иконка Казанской в бумажных розах, пачка писем, радиоприёмник и кастрюля. Это моя глупость.
А в рюкзаке еда: круп разных, макарон, тушенки, других консервов, масла бутыль, чай и сахар. Водки шесть бутылок, одну разбила, – с мужиками за дрова расплатиться. Деньги, кроме тех, которые в лифчике. Таблетки от давления, от живота и от сердца, мазь от спины, горчичники. Это моё спокойствие.
Буду так жить, всего бояться, ничего не ждать, помнить то, чего не было, всё беречь, мало тратить. Ходить на реку, ночью спать, просыпаться утром, варить обед, сажать картошку. Зимой только, может быть, разрисую стены углем и раскрашу всевозможно цветами и узорами, но к лету забелю. Буду жить хорошо. Иногда разве задумаюсь – что там было, в корзинке-то? Только какая разница, всяко лишнее оно, раз мне без него хо-ро-шо.
Берегите себя, Серёжа
Каталась на электричке, дивилась людям, одетым одинаково: то есть по сравнению с контингентом пригородного поезда, даже в метро разнообразие видов, а уж на Тверской и вовсе карнавал. Интересно, кто их научает и где они покупают эти вещи.
Выбрала место у самой двери, там, где всегда пристраиваются пассажиры последнего разбора – подростки, цыгане, дачники с огромными грязными сумками, коробейники и просто бухая шпана. Забавно, что даже в тоскливых подмосковных «собаках» есть иерархия, причём стихийная. Точно как женщины из чистой публики откуда-то знают, что им положено надевать специальный пуховик и вязаный берет, так и эти интуитивно жмутся к выходу, к своим.
А я, значит, мало того что не на машине и не на автобусе и одета не по уставу, так и уселась ещё в самый бомжатник. Почти всю дорогу писала письма, к концу поездки подняла глаза от телефона и увидела, какой чувак садится напротив. В шапочке, куртке и берцах, в нарядных мастях, чуть за тридцать, но это такие пропитые и битые тридцать, что иные и под полтинник краше. Чистый, слишком чистый для своих физических кондиций – так у нас за казённый счёт отмывают.
Быстренько отвернулась, но отметила боковым зрением его пластику и подумала – ыыыы. Ну до чего тоскливо и тревожно от всей этой инакости – от уголовников, психов, алкашей и припадочных. Пусть они будут где-нибудь там, где нет меня, я охотно верю, что они тоже люди и потенциальные венички ерофеевы – но подальше, подальше. Только ведь сама угнездилась с краю, чего уж теперь.
А с этим понятно всё: маленький, резкий, как понос, злющий. Задвинул сумку под сиденье, скрестил ноги и вытянул по диагонали – вроде вальяжно, но живот при этом прикрыл руками и ссутулился. И движения в два раза быстрей, чем нужно. Передумал, поставил сумку рядом, открыл, пощупал пиво, закрыл, выдохнул и осмотрелся. Та-а-ак, а вот и я.
Но вдруг стукнула дверь и взвыл книгоноша:
– Уважаемые пассажиры, позвольте предложить вам… сборник православных молитв и перечень праздников… дорого это или дёшево – решать вам, но в магазине такая книга стоит…
Тут чувачок встрепенулся и окликнул его. Тот наклонился, бедняга, – совсем поля не сечёт, странно даже.
– Что же ты святыней торгуешь? Что же ты, сука, святое продаёшь… – И дальше поток неинтересной густой брани, от которой книгоношу смело, а я загрустила – не-люб-лю.
Пять минут, и моя очередь:
– Девушка. Девушка.
Ой господи, как же не люблю. А надо.
Надо открыть глаза и посмотреть прямо. Голубенькие, ага, ну хорошо, это легче. Легче, когда светлей моих.
Поднять подбородок, показывая, что услышала. Только одно движение, и ресницами ещё. Это всё очень важно – перевести его в свою тональность. Должен понять, что говорить следует тихо, смотреть внимательно, потому что реакция будет, но неотчётливая, придётся напрягаться, чтобы разобрать. А кто напрягается, тот и слабей.

