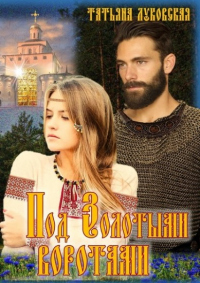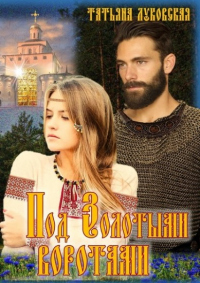
Пролог
Весна 1177 г.
Лестница безжалостно скрипнула, выдавая не в меру любопытную девицу, Марьяша вздрогнула, прислушалась — никого, можно красться дальше. Подлое любопытство нашептывало: «Всего одним глазком глянешь на гостя и сразу назад, да никто и не узнает». И девушка, потворствуя дурному советчику, тенью соскользнула по ступеням вниз, просочилась в широкую гридницу
[1], обогнула лавку и вжалась в бревенчатую стену, боясь лишний раз вздохнуть — лишь бы не заметили, не прогнали. Но отец, увлеченный разговором с незнакомцем, казалось, вообще ничего не видел вокруг. А гость и вправду был приметным. Ведь и Марьяша, пренебрегая запретом матушки, пробралась в покои отца — разведать, что за диковинная птица залетела к ним на двор.
Незнакомца покрывал толстый слой пыли и грязи, давно немытые и оттого непонятного цвета скрутившиеся в засаленные сосульки волосы, осунувшееся с ввалившимися глазами лицо в обрамлении всклокоченной нечесаной бороды, тонкий плохо заживший шрам на щеке. А лицо это, несмотря на истощенность, было прекрасным — лик ангела: высокие скулы, прямой нос, красиво очерченный рот со слегка выпяченной нижней губой, но самое главное — голубые, словно высокое весеннее небо глаза, особенно заметные в контрасте с загорелой обветренной кожей. Над путником так и висел ореол страдальца.
Но это только на первый взгляд. Более внимательному взору откроются иные приметы: заляпанный корзень
[2] — чистый аксамит
[3], дорогого тонкого шитья; кожух
[4] оторочен соболем; на поясе болтались ножны с торчащей рукоятью боевого меча. Такое оружие не только простому лапотнику, но и не всякому нарочитому мужу
[5] в руках доведется подержать. Да и взгляд небесных очей не просительно-жалкий, а властный, требовательный, привыкший получать то, что должно. Гостю на вид чуть за двадцать, но он сидит, а седовласый отец Марьяши, уважаемый посадник, стоит перед этим немытым юнцом, озабоченно перебирая кисти кушака. Девушка знала, отец всегда так делал, когда волновался. Но чего ему беспокоиться? В град приехала лишь жалкая кучка грязных, измученных воинов во главе с этим. Какая угроза может от них исходить?
— Гонятся за мной псы Всеволодовы
[6], никак не отстанут, — зазвучал чуть охрипший молодой голос. — Любимку Военежьего отрядили, этот, что клещ, вцепится, не вырвешь. Спрячь меня, посадник. Одна надежда на тебя.
— Не могу я без дозволения княжьего, — робко возразил отец, — вот ежели бы светлый князь Глеб приказал…
— Да ваш князь в порубе владимирском сидит, а может и вообще его Бог прибрал. Сам видел, как он с коня падал.
— Отведи Господь, — посадник перекрестился. — Ну, так в стольной Рязани надо бы поспрошать. Такие дела в одиночку, — отец поправил горловину свитки
[7], словно она его душила, — в одиночку не делаются, кто я таков — решать?
— Да у кого в Рязани вопрошать?! У княгини, горем убитой? Спрячь. Здесь на Вороноже и по Дону городишек много, затеряюсь, отсижусь. А там мы еще поднимемся, еще покажем! — незнакомец сжал кулаки.
— Уж показали, — не сдержался от злой иронии посадник.
— Может так повернуться, что я князем вашим здесь сяду. Я отплачу тогда.
Марьяша распахнула глаза: «Так это князь!»
— Ох, Ярополк Ростиславич, прости старика, но молод ты еще, горяч. В Рязани Святославичам
[8] сидеть, Мономахово племя
[9] не приимут.
— Нынче все не по старине, сильные да ловкие правят. Мне бы отсидеться, сил накопить.
— Так может к половцам, знаю, вы дружбу водили, у них надежней будет? Уж владимирцам в степи не достать, — посадник явно хотел выпроводить нежеланного гостя.
— Половцы серебро любят, а у меня, сам видишь, нынче в калите
[10] дыра. Продадут меня поганые за тридцать серебряников Всеволоду и не побрезгуют, — молодой князь устало потер виски. — На смерть меня выгоняешь, уморят меня в порубе
[11], света больше белого не увижу, заживо гнить стану, — Ярополк зябко завернулся в корзень, хотя в гриднице было изрядно натоплено. — Укрой, христианского милосердия ради, — теперь голубые очи смотрели с мольбой.
— Батюшка, помоги ему, — не выдержала и робко подала голос из своего уголка Марьяша.
Отец с гостем разом обернулись.
— Это кто ж такая пригожая? — заулыбался князь.
Он сразу приосанился, приглаживая пятерней спутанные пряди.
— Дочь моя, Мария, — недовольно нахмурился отец. — А ну брысь отсюда!
Марьяша, сжавшись под грозным взглядом отца, подобрала поневу
[12] и пустилась бежать.
— Хороша, — успела услышать она за спиной, отчего девичьи щеки сразу запылали.
Протопав громко вдоль клети
[13], Марьяшка крутнулась и на цыпочках опять стала красться к гриднице. Грешно, конечно, но надо же узнать, что отец решит.
— Ладно, княже, подумаю, куда тебя схоронить. Но лучше тебе, Ярополк Ростиславич, тоже подумать, куда дальше бежать. Потому как, ежели припрет нас Всеволод Юрьевич, то уж извини, а выдать нам тебя придется. Мы от половцев и день, и ночь отбиваемся не для того, чтобы еще с полуночи набег получить.