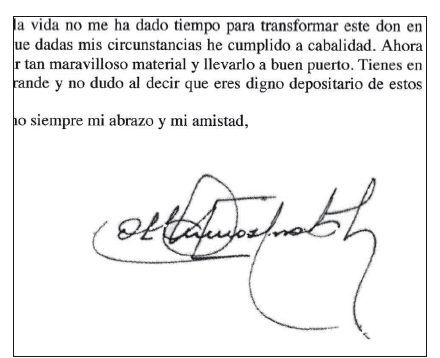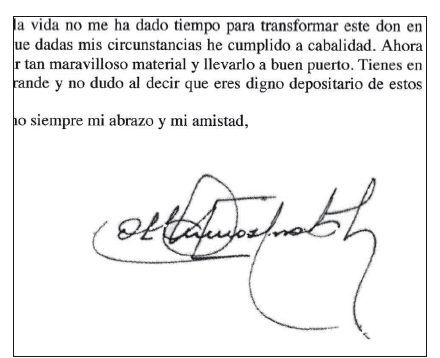Ее пальцы без колец проворно перелистали страницы и на этот раз быстро нашли искомое. Она передала мне тетрадь и снова попросила прочесть вслух.
«Что вы думаете о смерти Гарделя? – спрашивает неведомый мне рассказчик. – Многие считают, что это была не катастрофа, а спланированное убийство: кто-то подложил бомбу в самолет – и прощай, певчий дрозд». Персонаж по имени Сальседито отвечает: «Превосходный сюжет для триллера. И вдобавок никто не удивился, что это случилось у нас в стране, в стране смерти». И эта история тоже была мне близка, и слово это употреблено здесь не случайно, а почему – вы узнаете чуть позже. В июне 1935 года, во время гастрольной поездки по трем колумбийским городам Карлос Гардель, самый выдающийся исполнитель танго, погиб в авиакатастрофе в медельинском аэропорту Олайа Эррера. Его самолету F‑31, чье прозвище «Жестяной Гусь», должно быть, многих наводило на тревожные мысли, оставалось две минуты до отправления, назначенного на три часа дня, когда пилоту сообщили, что надо будет загрузить на борт несколько коробок с кинопленкой. Их засунули под сиденья, потому что в грузовом отсеке места уже не было. Потом скажут, что катастрофа произошла из-за того, что самолет был перегружен. Как бы то ни было, пилот (Эрнесто Сампер, тезка и однофамилец того, кто станет президентом Колумбии шестьдесят лет спустя) увидел клетчатый флаг и начал выруливать. Однако самолет никак не мог набрать скорость. «Не самолет, а трамвай какой – то», – пошутил, как передают, Гардель. Потом F‑31 повело вправо, вынесло со взлетной полосы, и он врезался бы носом в аэродромные постройки, полные людей, если бы Сампер в последнюю секунду отчаянным маневром не сумел изменить направление. F‑31, который резко развернуло, столкнулся с другим самолетом, ожидавшим своей очереди на взлет. Обе машины мгновенно вспыхнули; погибло пятнадцать человек, включая Гарделя. Официальное расследование пришло к выводу, что причинами катастрофы были: перегрузка, сильнейший боковой ветер и, главным образом, отвратительное состояние взлетной полосы. Среди экспертов, подписавших заключение, значится и фамилия инженера Эпифанио Монтойи, чья внучка в 1994 году рассказала мне об этом, а пять лет спустя вышла за меня замуж.
Но я ничего не сказал об этом легкомысленном совпадении Монике и Уго, потому, во‑первых, что им-то совершенно незачем было разделять мой интерес к диковинным камео, которых история сняла в этом фильме, а, во‑вторых, потому что мне это не показалось существенным. Куда важней было вспомнить, что и вокруг гибели Гарделя строились конспирологические версии: говорили о жестокой конкуренции двух крупных колумбийских авиакомпаний и о соперничестве самих пилотов, говорили еще и о сигнальном пистолете, в котором таинственным образом не хватало одного патрона.
– Ну, теперь видите? – спросила Моника.
– Я вроде бы вижу, – сказал Уго.
– Послушайте, я не знаю, кто такой этот Карбальо, – сказала Моника. – Но если ему был нужен тот, кто готов слушать про всякую конспирологию, то он его тут нашел. Эрре-Аче был чуток к таким вещам. Ему нравилось считать, что все на свете имеет свою потаенную сторону. Затонула шхуна на Карибах? – Заговор с целью лишить немцев их собственности. Авиакатастрофа, в которой погиб Гардель? – Заговор авиакомпании, чтобы вытеснить конкурента. Что я могу сказать? Ну, нравились ему такие истории.
– Это ничего не значит, – возразил я.
– Разумеется, ничего. Но роман буквально переполнен такими версиями. Придется допустить, что твой Карбальо знал, к какому дереву притулиться.
– Но ведь он-то роман знать не мог, – сказал Уго.
– Неважно, – ответила Моника. – Я только хочу сказать, что Эрре-Аче был восприимчив к подобным бредням. Восприимчив – или снисходителен, или любопытен до них, называйте, как хотите. И меня не удивляет, что он сидел где-нибудь в кафе и слушал их, и, что называется, велся на них, и даже раздумывал, нельзя ли как-нибудь с толком использовать в своих романах. Только не говорите мне, что вы, писатели, – не такие: все вы любите вытягивать из людей разные причудливые сюжеты и вставлять в свои писания. Так или иначе, могу лишь повторить: я этого персонажа не знаю.
– А мне он сказал, что был близок с Эрре-Аче.
– Ну, это уж я могу с порога отвергнуть: Эрре-Аче в последние месяцы почти не выходил из дому. Близкий друг пришел бы сюда, и я бы его увидела. А уж новый знакомец непременно привлек бы мое внимание.
– И мое тоже, – сказал я.
– Странная история, – заметил Уго. – Этот субъект уверяет, что Эрре-Аче согласился написать книгу?
– Да не просто согласился! А был якобы счастлив. И говорил, что это будет замечательный роман, его лебединая песня. И что непременно закончил бы его, если бы не болезнь. И вот поэтому он обратился теперь ко мне.
– Что-что? – переспросила Моника. – То есть – как?
Я похвалил себя за то, что предвидел такой поворот. И, сунув руку во внутренний карман пиджака, где ношу обычно карандаш и шариковую ручку, вытащил письмо, которое вручил мне Карбальо после мессы. Развернул и протянул Монике. Ее маленькие глазки, которые, как мне всегда казалось, взирали на мир с подозрением, поползли по строчкам, как мухи; прочитав, она передала листок Уго, и тот в свою очередь прочел, воздержавшись от комментариев.
– Так оно у тебя от него, – произнесла Моника не вопросительно, а утвердительно. – От этого самого Карбальо.
– Да. Он сказал, что выполняет просьбу Эрре-Аче. И тот якобы хотел, чтобы книгу, раз уж он сам не сможет, написал я.
– Сильно, – проговорила Моника.
– Что именно?
– Письмо – подделка. Хотя и очень искусная. Вот это и сильно – превосходно исполненный фальшак.
– А как ты определила? – спросил Уго.
– Эрре-Аче по-разному подписывался в быту и в литературе. Чеки или договоры подписывал на один манер, а дарственные на книгах делал на другой. И письма свои подписывал так же. – Она поднесла листок поближе к глазам. – А здесь – подпись, которую он ставил на документах. Да, сделано безупречно.
– Но где же Карбальо мог видеть ее? – спросил я. – Не могу понять.
– А я, кажется, могу, – вмешался Уго. – Эрре-Аче расписывался после каждого сеанса химиотерапии. Так что, вероятно…
– Вероятно, но очень сомнительно.
– Во всяком случае, тот, кто скопировал подпись, – настоящий художник, – сказала Моника. – Но факт остается фактом: никогда бы Эрре-Аче не стал бы так подписывать письмо, тем более – письма о литературе, и уж подавно – письмо о литературе, адресованное другу.
– То есть ты считаешь, что письмо подделано?
– Да, именно это я и говорю.
– И ты уверена?
– Более чем. Ну вот сам скажи – видел ты когда-нибудь, чтобы Эрре-Аче так расписывался хоть на одном письме, посланном тебе?